- Вечером в Мариинском театре интересный концерт. Исполняют Девятую симфонию Бетховена. Сходите, послушайте.
Музыка мало привлекала меня в те минуты. Я хотел есть. Но билет взял, на этот раз поблагодарил и вышел на улицу.
Наступил вечер. В общежитии для командированных я помылся, достал кружку горячей воды и съел скромный бутерброд.
Делать было больше нечего. Командировочные дела начинались завтра.
Я нахлобучил шлем, туго подтянул кушак и пошёл в Мариинский театр слушать Девятую симфонию Бетховена.
4
Девятую симфонию Бетховена я никогда не слышал, как и все предыдущие. Я знал кое-что о композиторе от художника Шварца, написавшего его портрет. Но отец Нины Гольдиной никогда не играл Бетховена. Впрочем, для меня не существовало никакого различия между Бетховеном и Брамсом. В наши суровые военные годы музыка казалась мне буржуазным предрассудком, забавой. К тому же учитель пения Фёдор Иванович Сепп сделал всё возможное, чтобы внушить мне неприязнь к музыке.
Но мне некуда было деваться в этот вечер. Хотелось быть среди людей. И к тому же я испытывал некоторую гордость при мысли о том, что буду сидеть во втором ряду знаменитого оперного театра.
В театре было холодно, и никто не раздевался. Я снял шлем и, осторожно ступая, прошёл во второй ряд. Оказалось, театр переполнен. Рядом со мной сидел высокий седобородый старик в пенсне с золотой оправой. «Наверно, профессор», - с уважением подумал я. В ложах и на балконе сидела молодёжь, в партере много красноармейцев, в шинелях, в бекешах, опоясанных солдатскими ремнями. Значит, все они любят и находят время слушать музыку? Значит, так…
От дыхания сотен людей облака пара поднимались в воздух.
Театр поразил меня. Золотые узоры на барьерах лож, бархат, блеск огромных люстр, сверкающих тысячами кристалликов. Такое великолепие я видел первый раз в жизни. Как жаль, что вместо профессора рядом со мной не сидит Нина Гольдина! Как обидно, что она уехала!
Дирижёр взмахнул палочкой, и симфония началась.
Сначала я никак не мог сосредоточиться, ёрзал, смотрел по сторонам, и сосед несколько раз недовольно качал головой. Наверху в ложе я увидел седоволосую секретаршу и улыбнулся ей, как старой знакомой.
Неподалёку от меня сидела, закрыв глаза, белокурая женщина в потёртом пальто. Меня поразило её измождённое и усталое лицо. Она дремала. Во сне её веки вздрагивали. Понемногу сонливость начала одолевать и меня. Глаза слипались…
И вдруг, даже не знаю, с какого места, звуки покорили меня. Сколько раз я потом слушал Девятую симфонию, и всегда мне хотелось вспомнить, найти это место, но никогда не удавалось. Словно я был безнадёжно слепым и вдруг прозрел. Звуки лавиной обрушивались на меня.
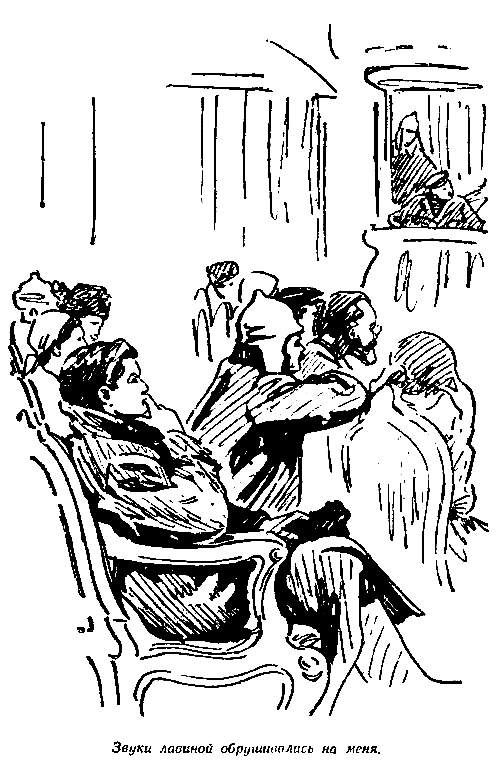
Я видел борющихся людей, видел, как они шли на приступ, падали, гибли, истекали кровью, но побеждали.
Нет, это не тихие мелодии Брамса, которые играл отец Пины Гольдиной. Новый мир раскрылся предо мной.
Ураган то затихал, то опять мощными раскатами ударял в степы театра.
И я видел моего черноглазого друга, имени которого я даже не знал, друга, умершего в госпитале за рекой. Он бежал в атаку среди других бойцов, глаза его горели… Он падал на белый снег. «Мальчик… - говорил он мне, - мальчик, я не отступил».
Я видел красноармейцев в рыжих обмотках, которые проходили по нашей центральной площади, слышал звуки оркестров, которые играли победу.
Звуки поднимали меня. Я забыл обо всём - и о том, что одинок, и о том, что голоден, и о том, что уехала Нина Гольдина. Я был счастлив. Профессор снял пенсне, и мне показалось, что глаза его мокры от слёз. Я оглянулся вокруг и увидел много счастливых лиц.
Сейчас, вспоминая этот вечер, я склонен думать, что далеко не все слушатели так же восприняли симфонию. Многие скучали, думали о своих будничных, невесёлых делах. Но тогда я был уверен, что все счастливы, как я.
Белокурая женщина сидела теперь, вся подавшись впе-ред. Восторг и огорчение застыли в её широко раскрытых глазах. Я пожалел, что не разбудил её вовремя, что ей не удалось услышать всей этой неожиданной для меня, такой необыкновенной музыки.
Симфония кончилась. Замерли в воздухе последние звуки. Я выходил из театра в толпе взволнованных слушателей. На многих пальто белели нестертые цифры очередей.
В общежитии, среди спящих людей, не раздеваясь, я сел на свою койку, вынул ручку из патронных гильз - подарок черноглазого парня - и начал писать письмо Нине Гольдиной.
«Как жаль, - писал я, - что ты не могла вместе со мной послушать музыку, которая называется Девятой симфонией Бетховена. Это такая симфония…»
Но передать свои впечатления от симфонии я не мог - не хватало слов.
Я так и уснул над письмом, одетый, не выпуская пера из пальцев, счастливый, взволнованный, потрясённый звуками, рождёнными много лет назад великим композитором Бетховеном, которого впервые узнал в этот вечер и полюбил навсегда.
"ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ"
В конце девятнадцатого года мы избрали Ваню Филькова секретарём губернского комитета комсомола. Несмотря на молодость, он пользовался большим авторитетом в организации. На работу в губком перевели и меня. Ребята постарше ушли на фронт. Белые подступали к самому нашему городу.
С Ваней я в те дни не разлучался. Работали мы, как взрослые. Дни и ночи. Спали на жёстких губкомовских диванах. В губкоме всегда толпилась молодёжь. Нам, пятнадцатилетним юнцам, ещё незнакомым с бритвой, приходилось организовывать укомы, формировать отряды ЧОНа, агитировать, убеждать, воспитывать, бороться с бандитизмом, с меньшевистско-эсеровскими вылазками. К нам в губком приходили молодые парни и девушки за пищей для тела и для души.
Домой забегал я раз в три-четыре дня. Нам было не до семьи. Мы и о еде вспоминали, только когда голод совсем уж донимал нас. Иногда это бывало в разгар бесконечного ночного заседания. И тут связка ржавой воблы, которую кто-нибудь приносил в перерыве, казалась райской пищей.
Все мы писали заметки, статьи, а иные сочиняли рассказы и даже поэмы. Писали нам ребята из уездов и деревень, с фронта, писали в стихах о своей нелёгкой жизни. Но наши творения не видели света.
Даже «руководящие» статьи Вани Филькова с трудом удавалось напечатать в губернских «Известиях». А между тем в этих же «Известиях» то и дело появлялись произведения старых журналистов, в своё время сотрудничавших ещё в жёлтом меньшевистском листке. Мы не раз говорили об этом в губкоме партии.
- Что же… - начинал политпросвет Миша Басманов, только что вернувшийся с фронта, - что же, всякие буржуазные спецы будут в газетах пописывать, а нам своего молодёжного журнала не даёте?… Бумаги нету? Да мы её сами, бумагу, из центра выхлопочем. Комсомол требует журнала. Больше не можем сдерживать творческих порывов.
Миша был старым агитатором и говорил напористо. Но в ответ всегда поднимался губернский редактор Пётр Андреевич Громов и возражал Мише сухими, тоскливыми словами. Очки редактор носил с тёмными стёклами, и никогда нельзя было угадать, на кого он смотрит. Громов считался самым учёным человеком в городе: и газету редактировал, и тезисы писал, и читал всякие лекции.
В губпарткоме ценили его больше, чем нас с Мишей и Ваней Фильковым вместе.
Спас нас Василий Андреевич Фильков. Мы посвятили его в наши журнальные планы.
- Действуйте, - сказал Василий Андреевич, - поддержу.
На ближайшее заседание губкома мы явились нагруженные ворохом стихов, рассказов, статей, рисунков.
- Вот, - сказал Миша, - дайте выход нашему творчеству.
Только лишь хотел редактор взять слово, выступил Фильков-старший. Блеснул улыбкой из-под русых усов и сделал стратегический ход:
- Я с положением детально ознакомился. Действительно, на журнал нет бумаги.