Александр Абрамович Исбах
ЗОЛОТЫЕ КУВШИНКИ
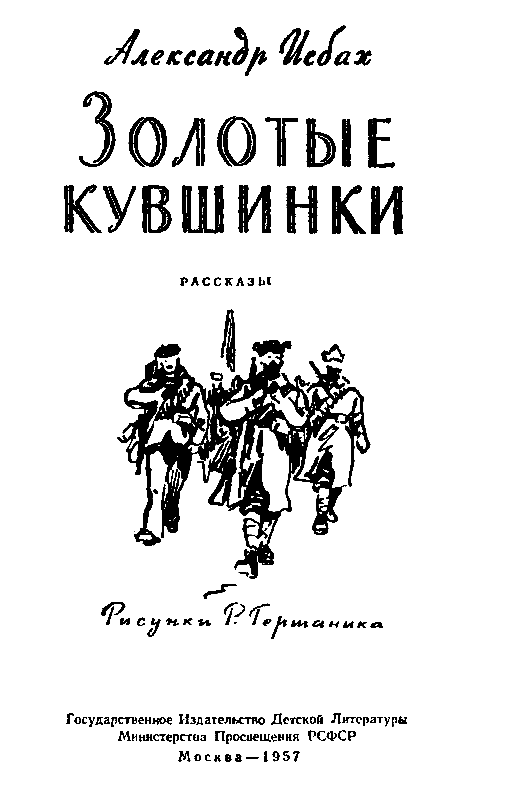

Посвящается моей матери
БОГ
1
Мне было восемь лет, когда умер отец. Он совсем не болел и умер неожиданно, от разрыва сердца… Я не понимал, как это может разорваться человеческое сердце. Никогда ещё я не видел смерти и не думал о ней. Когда наша квартира наполнилась людьми, которые громко, деловито говорили, спорили, распоряжались, мне стало горько и тягостно.
«А может быть, всё это сон?… Вот проснусь - и всё станет по-прежнему: отец не будет лежать вытянувшись на кровати, мама, как всегда, ласково улыбнётся, и чужие люди исчезнут из нашей квартиры».
Я убежал в переднюю, спрятался за вешалкой, закрыл глаза и долго сидел там.
Сегодня должны были принести мой новый форменный костюм с белыми блестящими пуговицами. Сегодня мы собирались пойти с папой покупать фуражку с гербом и пояс с медной пряжкой. Я бы сразу надел фуражку и туго затянул пояс. Мы прошли бы по Липовой улице, и папа гордился бы, что его сын-ученик приготовительного класса липерской гимназии имени Александра I Благословенного.
Теперь портной принесёт костюм, его возьмут чужие люди и небрежно бросят в сторону. Разве до него сейчас в доме, где умер человек!…
- Боже! - умолял я, уткнувшись головой в полу чьей-то шубы, пропахшей нафталином. - Боже! Я прочту без ошибки весь молитвенник, я не пропущу ни одного слова, но сделай так, чтобы всё было по-прежнему! Боженька, я прошу тебя! Я буду честно поститься в судный день, только сделай так, чтобы папа не умер! Я прошу тебя, боже! Ну, сделай…
Не помню, как долго я сидел за вешалкой. Меня обнаружили, когда толстый рыжебородый Соломон Розенблюм снял своё пальто.
- Вот он! - сердито сказал Соломон Розенблюм. - Его ищут по всему городу, а он играет в прятки.
- Не нужно так резко, господин Розенблюм! Не нужно так резко! - сказала маленькая тётя Эсфирь. - Мальчик теперь сирота.
А мама, моя мама, ничего не сказала. Она смотрела на меня скорбными, запавшими глазами. Она так смотрела на меня, что я понял: бог не захотел исполнить мою просьбу.
Соломон Розенблюм считался самым богатым евреем в нашем городе. Он был староста синагоги.
Он никогда не бывал у нас дома. Моё знакомство с ним ограничивалось одним неприятным событием: Веня Розенблюм проиграл мне орехи и пожаловался отцу; рыжебородый староста, не разобравшись, в чём дело, сильно дёрнул меня за ухо. Оно долго потом болело.
А теперь господин Розенблюм как хозяин распоряжается у нас в доме. И все подчиняются ему. Как это случилось? Почему? Но я был слишком расстроен, чтоб суметь разобраться во всём этом.
На кладбище собралось много народу. Синагогальный шамес (служка) Дувид Бенцман суетился, то и дело подбегал к Розенблюму, а тот резким голосом отдавал распоряжения.
Лопаты с трудом вонзались в каменистую землю, и могилу не успели выкопать до нашего прихода.
Я стоял около мамы и заплаканной сестры, смотрел, как срывались с лопат жёсткие комья земли. Мне хотелось убежать отсюда, от этой ямы, от этих чужих людей, от рыжего Соломона Розенблюма. Было жутко среди могил, железных решёток оград, торжественных надгробных надписей, высеченных на камнях.
Тёплая рука мамы сжимала мою руку.
«Мама! -хотелось крикнуть мне. - Я боюсь этих людей с лопатами. Уйдём, милая мама!… Я знаю дыру в кладбищенской стене. Мы можем убежать…»
- Реб Дувид, - сказал Соломон Розенблюм, - приготовьте мальчика к кадышу. Дайте ему в руки молитвенник.
Меня оторвали от матери и дали старый, затрёпанный молитвенник. Реб Дувид раскрыл его на странице, которую я обычно пропускал: там была поминальная молитва об умерших - кадыш. Реб Дувид нагнулся надо мной, и его чёрная борода касалась моих щёк.
- Прочти сначала про себя, Сендер, - почти ласково сказал мне шамес.
- Реб Дувид, надо было мальчика подготовить раньше, а не в последний момент! - громыхал Соломон Розенблюм.
- Когда раньше, господин Розенблюм? Когда раньше? - всплеснула руками маленькая тётя Эсфирь. - Побойтесь бога, господин Розенблюм!
Тело отца в белом саване оказалось совсем рядом. Мать вскрикнула, и тётя Эсфирь бросилась к ней. Кто-то громко заплакал. Всё смешалось в моих глазах, я чуть не упал. Опять замелькали в воздухе лопаты. Мама закрыла лицо рукой.
Соломон Розенблюм что-то сердито говорил мне, но я ничего не понимал. Ни одно слово не доходило до меня.
- Читан же, читай!-ткнул пальцем в молитвенник реб Дувид. - Читай кадыш!
- Реб Дувид, - загремел Соломон Розенблюм, - будет этот мальчишка читать кадыш или он хочет, чтобы это сделал я за него?
- Сашенька… - нагнулась ко мне тётя Эсфирь, - Сашенька, читай вот эту страницу. Так нужно.
И я начал читать.
Я стоял над свежезасыпанной могилой, тупо смотрел в молитвенник и читал заупокойную молитву, путаясь и запинаясь на трудных и непонятных мне словах:
- «…Да возвеличится и да святится великое имя…» Над свежей могилой отца я славил имя всемогущего бога.
- Ну, кадыш был слабоват! - сказал господин Розенблюм. - Ничего, привыкнет ещё…
Так, в преддверии девятого года жизни, кончилось моё детство.
2
Соломон Розенблюм оказался прав: я привык. Три раза в день - рано утром, перед закатом и поздно вечером - я спешил в синагогу. Три раза в день в мою жизнь врывался кадыш. Мне уже не нужен был молитвенник. Если бы меня разбудили ночью, я без запинки отчеканил бы: «Да возвеличится и да святится…»
Очевидно, он был очень взыскателен и требователен, этот бог, если столько раз на дню приходилось славить и величать его. Но тогда я не задумывался над этим. Это было бы кощунством.
Отношения с богом у меня были сложные и запутанные. Среди всех моих чувств к нему преобладал страх. Бог был всемогущий. Он был всевидящий. Ничто не могло укрыться от него.
При отце можно было перевернуть несколько скучных страниц молитвенника, чтоб скорей покончить с длинным праздничным молением. Отец бы не заметил. Да, признаться, он смотрел на такие дела сквозь пальцы. «Э… одной молитвой больше… одной меньше…»
Но бог… Он всё заметит… Он не простит. И я боялся. Раньше между мной и богом стоял отец. Это было как-то легче и спокойнее. Теперь же я остался с богом один на один. Лицом к лицу. Он мог наказать всех нас - и мою маму, и мою сестру. Я твёрдо был уверен в этом и боялся пропустить в молитве хотя бы одно слово.
У меня не было теперь постоянного места в синагоге. Место отца заняли, мать в синагогу не ходила, и во время праздничных богослужений я устраивался где-нибудь сбоку. Никто не следил за мной, можно было убежать во двор и играть в орехи. Но этого бог никогда не простил бы. Я стоял в углу и без конца шептал горькие и тоскливые слова молитв.
- «За грех, которым согрешили наши предки в земле египетской!» - громко восклицали евреи и били себя в грудь.
Я не чувствовал особой ответственности за старые египетские грехи, но тоже восклицал вместе со всеми и тоже больно, чтоб не обмануть бога, бил себя в грудь. Мало кто замечал меня здесь, в синагоге. Только реб Дувид иногда, проходя мимо, одобрительно помахивал бородой.
Я боялся бога, но я и требовал от него. Я был уверен в том, что он всемогущ. Как-то я потерял свою любимую игрушку - маленький никелированный компас. Этот подарок отца был очень дорог мне. Целый день я просил бога, чтобы компас нашёлся. И когда мама, подметая пол, действительно нашла компас, я решил, что бог услышал меня.
По вечерам, перед сном, я долго стоял, закрыв глаза, прижавшись к спинке кровати. Я просил бога, чтобы мама не болела, чтобы мне поставили хорошую отметку по чистописанию, и о том, чтобы вырасти и не быть таким маленьким. И хотя бог молчал, я был уверен, что мои молитвы доходят до него.