По многу часов в день занимался Филиппенко своей рукой - и с радостью обнаружил, что большой палец крепнет, крепнут и мышцы ладони.
Рискнул - записался на спортивные соревнования.
В зале расположены снаряд за снарядом. Филиппенко сопутствует удача. И вдруг - канат… Свисает с потолка - а до потолка восемь метров, и на канате ни одного узла. Тут же судья объявил, что взбираться к потолку только при помощи рук; притронешься к канату ногами - будешь снят с соревнования.
Филиппенко преодолел канат. Сам не понимал, что за чудо с ним произошло…
Его растормошили соперники, - это были сильные спортсмены.
И они же торжественно повели его получать первый приз.
Так Филиппенко раз и навсегда доказал военным медицинским комиссиям, что его увечье - не увечье, а как бы почетный знак, свидетельство сильной воли.
В Москве Филиппенко заканчивал военно-воздушную академию. Надо было выполнить последнее задание. Посадили его бортмехаником на вновь построенный самолет - первенец нашей бомбардировочной авиации конструкции А. Н. Туполева.
За руль сел Валерий Павлович Чкалов. Он обычно первым поднимал в воздух вновь создаваемые, еще не облетанные и подчас таящие в себе неприятные сюрпризы самолеты…
Набрали высоту…
Но пусть и на этот раз рассказывает сам Филиппенко:
«Вдруг вижу через щель: самолет - камнем вниз. Все внутри у меня поднялось к горлу… Но мелькнула надежда: «Ведь это же Чкалов, не допустит он, чтобы мы так враз угробились!»» Я за что-то схватился, чтобы удержаться на месте, кричу другому механику:
- Что происходит?
- Пикируем.
- Да ведь нельзя! Кто же пикирует на бомбардировщике? Есть приказ главкома - каждому самолету знать свое дело. И не вольничать!
А механик спокойно, с усмешечкой:
- Это же Чкалов…»
После окончания академии Филиппенко работал в авиационном научно-исследовательском институте.
Вот он куда взлетел, пулеметчик с «Гандзи», - исследователем за облака!
Между тем почта принесла мне новое письмо.
И опять от пулеметчика. Ему дал мой адрес Филиппенко.
Иван Васильевич Крысько обнаружился в городе Хмельницке, Винницкой области.
Бывший боец «Гандзи» на заслуженном отдыхе, персональный пенсионер.
Но Крысько - непоседа. Его можно встретить и на партийном собрании в колхозе, и на току, и внезапным ревизором у весов на хлебоприемочном пункте, и в поле, балагуром среди колхозниц…
Если у Ивана Васильевича огорченный вид - это почти наверняка означает, что в делах района возникли неполадки. Именно в сфере общественной, но отнюдь не в личной жизни. Со своей «дружиною», Верой Андреевной, живет он душа в душу. Держатся добрых украинских обычаев. Например, ежегодно ставят в клетку пару гусей. Вера Андреевна не признает новогоднего праздничного стола без гуся, причем особым способом откормленного.
…Итак, передо мной четыре письма: от Кришталя, Печенко, Филиппенко, Крысько. Есть сведения еще о некоторых товарищах, впрочем, пока лишь предварительные, требующие подтверждения. А вот обнаружить следы Басюка не удается… Жив ли он?

Четверо с «Гандзи», со мной - пятеро! Однако мы еще не виделись. Надо встретиться, но где?
Съедемся к Ивану Васильевичу Крысько, поглядим друг на друга, посетуем на годы, которые так изменяют людей, что вынуждают боевых соратников как бы заново знакомиться…
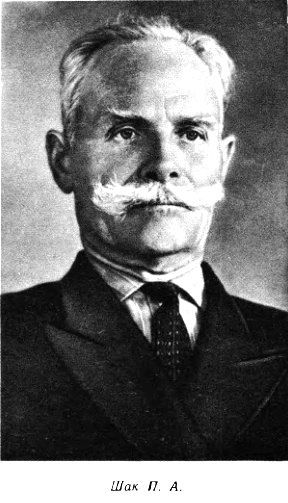
Хмельник был удобен и, так сказать, в оперативном отношении. Отсюда короткий бросок на автомашине - и мы в областном центре Подолии, в городе Хмельницком (бывшем Проскурове).
Взволнованный предстоящим путешествием в свою юность - в годы, которые сделали меня борцом и всю мою жизнь наполнили ощущением счастья, - садился я в поезд в Ленинграде…

Вот и Украина. Проезжаем станцию Коростень. Разумеется, теперь не узнать тупичка, в котором одно время располагался в вагонах штаб нашей 44-й дивизии. Вдруг вспомнился Николай Александрович Щорс. Кажется на станции Жмеринка начдив сделал нам крутую ревизию… Подъезжает к бронепоезду всадник. Все на нем ладное, как на картинке, - и шинель, и ремни. Выбрит, аккуратно подстриженная темная бородка.
Мы на бронепоезде насторожились: какое-то начальство. Про Щорса знал на Украине каждый, и мы гордились тем, что вместе с бригадой вошли в состав его прославленных войск. Но бронепоезду от рождения еще и месяца не было; знали комбрига Теслера, а начдива в лицо еще не видали.
Внезапно из-за спины всадника вынырнул ординарец, конь его перед стенкой броневагона взвился на дыбы.
- Кто тут командир? Докладайте Щорсу! - И вскачь обратно.
Я мигом ссадил из пульманов свободных от боевой вахты людей, построил их, скомандовал «смирно», отдал начдиву рапорт.
Начдив поздоровался, мы более или менее дружно ответили.
Наступила пауза, всегда в таких случаях загадочная.
Щорс поглаживает по холке своего коня и всматривается в нас, окидывая каждого с ног до головы. Под изучающим его взглядом бойцы даже шевелиться начали, как от щекотки.
А лицо у начдива все более недоумевающее. Все строже становится лицо.
- Кого это я вижу, интересно? - заговорил Щорс и совсем не по-военному, с комической ужимкой, развел руками: - Неужели советские бойцы?… Нет, это какие-то голодранцы на бронепоезде!
Я с обидой подумал: «За что он нас?» На станции Жмеринка мы ошалели в боях. Огромный железнодорожный узел - и со всех направлений теснит враг… По нескольку раз в сутки приходилось гонять бронепоезд по станционному треугольнику, чтобы повернуть его головным пульманом то на одесское направление, то на волочиское, то на могилев-подольское… Отовсюду требовали гаубичного огня! Тут не только поесть вовремя - мы в этих боях разучились спать ложиться…
Обтрепалось и обмундирование: ведь на бронепоезде что ни шаг - железо, острые углы.
Щорс выслушал мои объяснения, усмехнулся, снял фуражку, нащупал что-то внутри…
- Железо, говорите, виновато? А про это солдатское железо забыли, товарищ командир?
Гляжу - в руках у него иголка с ниткой. Подержал он ее перед моим носом и убрал опять в фуражку.
С этим и уехал.
Тут у нас, откуда ни возьмись, сразу нашлось время попортняжить, мало того - даже простирнуть одежду, перепачканную на бронепоезде в масле и смазке.
А вот другой случай… Это был секрет начдива, который раскрылся для меня лишь в тридцатых годах, притом случайно.
Ленинград. Дом писателя. В гостях у нас военные. Выступает артиллерист, ветеран гражданской.
Слушаю его и с трудом заставляю себя усидеть на месте: да мы из одной с ним дивизии, из 44-й!
Во время перерыва я подошел к артиллеристу.
- С «Гандзи»? Да как же мне не знать «Гандзю»! Вот вы где у меня сидели! - И он, рассмеявшись, похлопал себя сзади по шее. - И что это Щорс с вами цацкался - до сих пор понять не могу. Из меня, батарейца, няньку сделал, ей-право. Словом, велено было держать одну из пушек - а их у меня было всего-то три - специально для страховки «Гандзи»: выручать вас, чертей, своим огнем, когда в бою зарветесь… Разумеется, по секрету от вас.
Я был глубоко взволнован этим боевым товариществом, этой чуткостью сурового начдива.
- Полковник, неужели вы серьезно?
- Да уж куда, браток, серьезнее - личный приказ Щорса!
…Ночь, пассажирский поезд. В купе все спят. Даже колеса вагона постукивают дремотно. А мне не спится, сижу у окна.
Миновали Коростень, Житомир, теперь будет Казатин.
Казатин… И снова оживает в памяти девятнадцатый год.
Казатинский узел в лихорадке эвакуации. В сторонке от вокзала скромный вагон - из тех коробок на колесах, в которых в царское время возили пассажиров по «четвертому классу», то есть вповалку.
Вызванный с бронепоезда, испытывая приятный щекочущий холодок от острых переживаний только что выигранного боя, я поднялся в вагончик, узнав по тянущимся от станционного телеграфа проводам, что здесь штаб нашей бригады.