— Что ты, Наточка! — успокаивал ее Егор. — Чего же плакать-то? Што было, то прошло. Больше уж этого не будет, да и ждать осталось недолго, каких-то полгода.
— Меня только то и спасало, что надеялась: вернешься со службы — и кончится моя каторга, — успокоившись, продолжала Настя. — А кабы не это, стала бы я жить у Шакалов? Пропади они пропадом, да и с богатством ихним!
Утром, после ночки, проведенной с милым, Настя сладко спала, а Егор вместе со всеми уходил косить. Привычные к труду руки просили работы, кипела в нем молодая горячая кровь, и он давал выход накопившейся энергии, тешился косьбой. Словно играючи, шел он, широко шагая по прокосу, далеко впереди всех. Рубаха на нем темнела, дымилась от пота, под литовкой, отлетая влево, клубилась скошенная трава. И не было среди работников ни одного молодца, который мог бы поспорить с Егором, померяться с ним удалью в работе. А когда поднималось, начинало припекать солнце и косари кончали утренний уповод, Егор опять опережал всех, бегом устремлялся к балаганам. Разгоряченный работой, смеющийся, счастливый, он с маху кидал свою литовку на балаган, принимался целовать Настю, помогал ей готовить завтрак. А если к этому времени просыпался сынишка, Егор играл с ним, то, сажая его к себе на плечи, бежал с ним па речку купаться, то качал его на руках, подкидывая кверху выше головы. Мальчик звонко смеялся, дрыгая пухлыми ножками, а очутившись на земле, просил:
— Исё, дяденька, исё!
Так повторялось изо дня в день. А каким незабываемо чудесным показался Егору первый вечер после работы. После того, как отужинали, отбили литовки, а ребятишки за балаганами развели дымокур, возле которого, спасаясь от гнуса, сгрудились спутанные кони, работники расселись вокруг ярко полыхающего костра, задымили трубками, слушая рассказы бывалого солдата Антипа. Рыжий Никита на оголенном колене сучил постегонку[36], чтобы снова заняться починкой ичигов; Ермоха принялся обстругивать новое топорище; Егор, накинув на потную спину шинель, сидел на бревне рядом с Настей. Солнце только что закатилось, и небосвод на западе окрасился нежно-опаловым цветом. Глядя на него, Настя вздохнула и, подперев щеку рукой, тихонько запела:
Сначала подхватил Егор:
— Чужи жо-о-оны, — уже более звонко запевала Настя. Голос у нее грудной, приятный.
Песню подхватывают еще двое:
Четыре голоса слились в едином стройном напеве и понесли грустную, хватающую за сердце песню:
Теперь уже пели все: и подросток Санька, и Никита, махнув рукой на починку, басил, зажав в кулаке рыжую бороду. Даже Ермоха тихонько мычал и, продолжая стругать топорище, постукивал в такт песни носком левой ноги.
Быстро летело время, неделя промелькнула как один день. В конце недели погода испортилась, два дня шли дожди, а затем наступило вёдро. Вновь наступили жаркие дни, в долине началась гребь. После полудня работники разбились на группы: трое продолжали грести, четверо принялись копнить, а Ермоха с Егором стали метать сено в зарод. Несмотря на жару, работали они так дружно, что двое копновозов еле успевали доставлять им копны. Белокурый, веснушчатый парнишка-копновоз только подвез копну, как Егор уже всадил в нее длиннорогие деревянные вилы, крякнув, перевалил через колено и чуть не всю ее поднял, уложив на место. В этот момент и услыхал он встревоженный голос копновоза:
— Дяденька, гляди-ко, кто-то во-он по дороге во весь дух шпарит и красным платочком чего-то машет.
Егор взглянул, куда показывал мальчик, и обмер от неожиданности. По дороге, что тянулась срединой елани, во весь опор мчался всадник на вороном коне. Над головой его, вздетый на длинную палку, похожую на пику, трепыхался красный флаг. И там, где проехал всадник, люди прекращали работу, спешили к балаганам, седлали лошадей.
Первым заговорил Ермоха:
— А ведь, кажись, неладно что-то, неужто война?
— Война! — глухо отозвался Егор. Скрипнув зубами, он длинно, нехорошо выругался и, кинув вилы на зарод, зашагал на стан.
Книга вторая
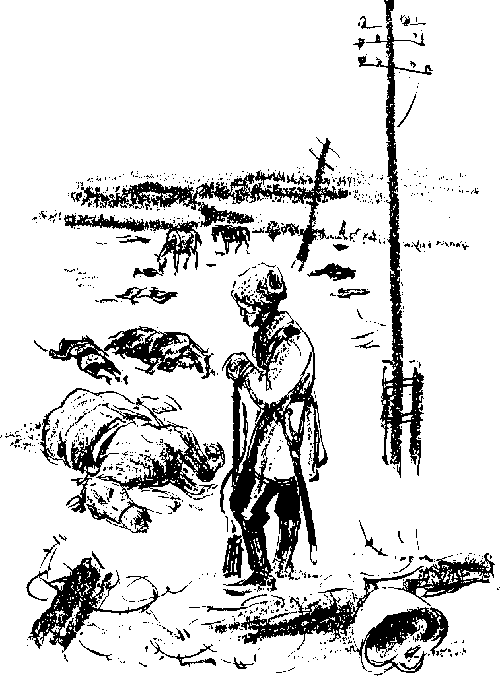
Часть первая
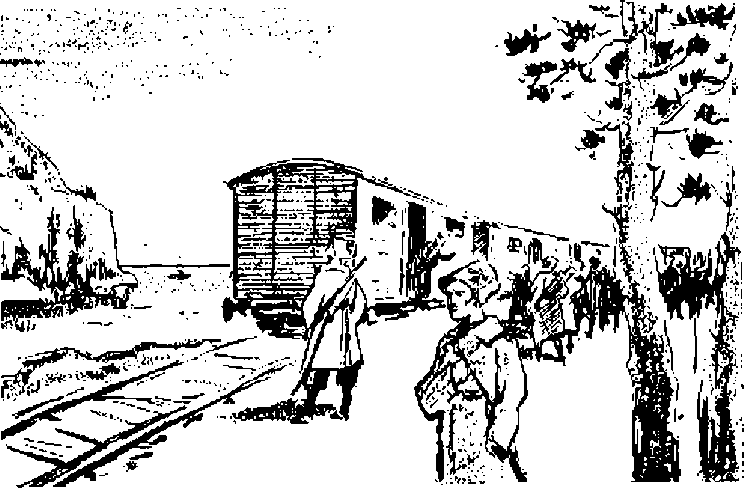
Глава I
Длинные кирпично-красные составы поездов днем и ночью тянутся на запад по Забайкальской железной дороге, увозя в своих вагонах казаков, лошадей, фураж, полковые обозы и все прочее войсковое имущество.
Быстро мчится поезд… Мимо мелькают телеграфные столбы; то взмывая вверх, то ныряя вниз, бегут провода; со скрипом раскачиваются вагоны, мерно выстукивают колеса на стыках. В вагонах тесно, душно, двери их распахнуты настежь. В теплушке, где ехал Егор, поместилось сорок казаков, весь второй взвод четвертой сотни 1-го Аргунского полка. Тут и Егоров посельщик, малорослый, с остреньким личиком, белобрысый Подкорытов, давнишний друг Егора, медлительный, рыжеусый здоровяк Молоков, высокого роста, молодой, четырнадцатого года присяги, чернобровый Вершинин, и сотенский запевала, весельчак Афанасий Суетин.
Уже вторые сутки, как выехали из Читы. Дорога пролегала долиной реки Селенги. Река серебристой лентой петляла левее, то приближалась к дороге, то вновь удалялась от нее так, что угадывалась вдали под сопками лишь по зарослям тальника. Время подходило к полудню. В распахнутые двери вагонов перед глазами казаков проносятся мимо поселки, островерхие бурятские юрты, широкие пади со стогами, зародами сена и прокосами еще не убранной кошенины. То тут, то там видятся каменистые утесы, лобастые сопки, и кругом, куда ни глянь, — тайга дремучая, без конца и края тайга; вечнозеленые сосны и кедры то мешаются с березняком, то уступают место стройным кондовым лиственницам.
Жара. Казаки поснимали с себя гимнастерки и сапоги и, кто сидя, кто лежа, грустными глазами провожали уходящие вдаль знакомые с детства картины. Не унывал лишь один Суетин, словно ехал он не на войну, а в летние лагеря, смешил казаков рассказами о своих похождениях.
— Ты в дисциплинарку-то как попал, расскажи, — смеясь, попросил его Молоков.
Афанасий кулаком расправил усы, улыбнулся.
— Там и рассказывать-то нечего. Пашка меня подвел Ожогин, нашей Чалбучинской станицы. Да-а, дело это осенью было, когда наш полк в Даурии стоял, в Красных казармах, помните?
— Помним, ты тогда в шестой сотне был…
— В шестой, у Резухина… Ну вот, стою это я однажды на посту у чехауза, а голова так и трещит с похмелья… И тут откуда ни возьмись Пашка, язви его, как на камушке родился, приперся ко мне на пост. Он, конечно, попроведать пришел по дружелюбности и целый котелок ханжи приволок с собой. Осушили мы этот котелок — я и осовел… не знаю, как и с Пашкой расстался. Помню только, что в тулуп завернулся, намотал на руку ремень от винтовки и прижал ее к себе оберучь, как дитю родимую… смена приходит, а я в будке храп храпом погоняю…
— Хо-хо-хо…
— Вот это часовой!
— Не нашлось воров хороших, весь чехауз можно бы увезти при этакой охране!
36
Постегонка — дратва.