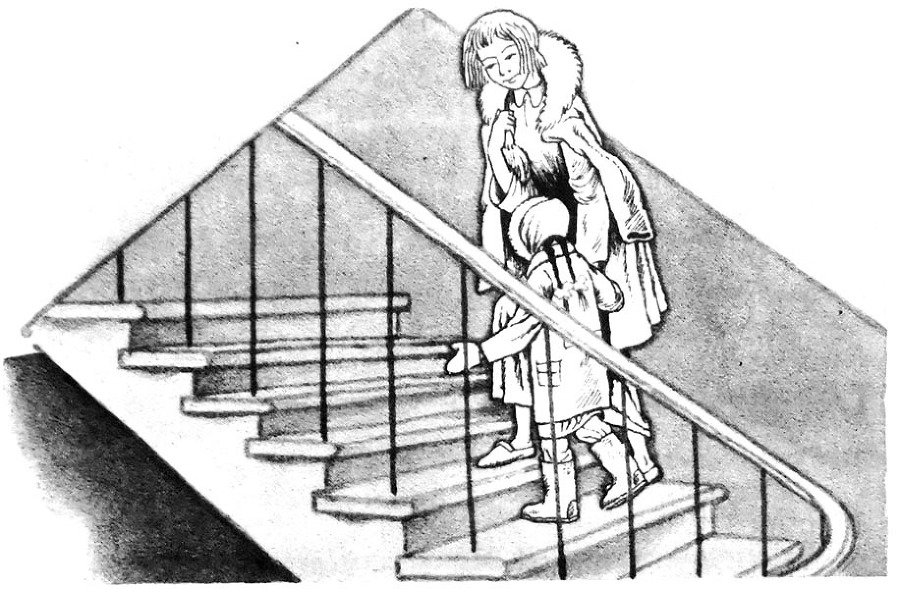
* * *
С наступлением весны жизнь в семье стала намного спокойнее. Антонина и Семён Доржиевич были заняты своими непонятными заботами. Мать располнела, изменилась в лице, тёмно-коричневая полоска, похожая на тоненькие усики, появилась над верхней губой. Она была по-прежнему беспокойной и хлопотливой, но вдруг в самую неожиданную минуту замолкала, прислушиваясь к чему-то своему, и на её лице появлялась счастливая улыбка.
Она уже не следила с прежним рвением за рубашками отца. Их было всего две — голубая и белая, раньше она их штопала по вечерам, постоянно стирала и крахмалила. Надев свежую отутюженную рубашку с тугим, хрустящим от крахмала воротничком, отец тщательно завязывал галстук узлом и сразу же становился деловым, подтянутым, каким его привыкли видеть на работе. Теперь он ходил в чёрной сатиновой косоворотке и выглядел проще, домашнее.
Мать стала рассеянной и забывчивой. Её взгляд часто без причины останавливался на каком-нибудь предмете, и она долго вспоминала, зачем он ей нужен, потом, досадливо махнув рукой, шла в другую комнату.
Ещё она верила в разные приметы, с волнением выслушивала мнение опытных, бывалых соседок.
— Мальчик будет, мальчик! — заверяли они.
Нилка и Дарима знали из разговоров отца и матери, что у них скоро родится брат.
— Придётся нянчиться и стирать пелёнки, — вздыхая, говорила старшая сестра.
Младшая помалкивала: она уже давно ждала брата. Скоро, скоро у неё появится брат, крепкий, черноволосый, черноглазый мальчик. Будут они вместе с братом и Николкой, внуком бабушки Карпушихи, сражаться с крапивой, играть и прятаться в густых зарослях иван-чая. Бабушке Олхон придётся долго искать их и сердито ворчать: «Нилка с Николкой, как нитка с иголкой, и внук туда же…»
Из Шиберты пришла посылка — фанерный ящик, зашитый в серую мешковину, заляпанный толстыми печатями из сургуча. Нилка еле сдерживает нетерпение, пока мать открывает ёго. Широким кухонным ножом она наконец отдирает крышку, плотно забитую мелкими гвоздями, и достаёт куски сушёной баранины, мешочек пряников и четыре пары домашних тапочек, сшитых бабушкой. Олхон никого не обидела: большие для Семёна Доржиевича, средние — Антонине, чуть поменьше Дариме, ещё меньше — Нилке.
Маленькие тапочки самые красивые — по малиновому суконному верху вышиты голубенькие незабудки. Нилка прижимает их к груди, как будто кто-то может отнять их, и вспоминает, как заказывала Олхон знакомым, уезжавшим в город, купить мулине. Те возвращались ни с чем: таких ниток не было в магазинах. Нилке казалось: мулине — это что-то драгоценное, и девочка была разочарована, когда Уяна наконец-то привезла два жиденьких голубеньких моточка. А сейчас её так обрадовали незабудки из мулине, вышитые старой Олхон.
Нилка надела тапочки, и ноги сразу как будто стали легче, сильнее и, казалось, сами готовы бежать далеко-далеко, до самой Шиберты.
Девочка берёт круглый твёрдый пряник из сероватой муки, раскусывает его, и в нос ударяет острый запах долгой дороги. Пряник пропитался и казёнными и домашними запахами. Сначала его вёз на полуторке, пропахшей бензином, Карпушихин Антон, потом он стыл в железнодорожном вагоне, лежал среди других посылок в гулком, тесном брюхе самолёта. Пряник закаменел, усох, но всё-таки сохранил тепло рук Олхон. Он вытерпел все превратности пути, чтобы добраться до неё, до Нилки, и от этого стал ещё вкуснее.
— Спасибо маме за посылку. Она всегда поймёт, всегда выручит в трудную минуту, — говорит Антонина. — Если нам будет тяжело, позовём её в город.
Нилка готова запрыгать по комнате, но что-то сковывает её и мешает открыто проявить свою радость. Странно получается: бабушка Олхон нужна не только маленькой внучке — самостоятельная, взрослая дочь тоже нуждается в ней.
* * *
Мать по-прежнему заботилась о семье, ходила по магазинам, готовила, мыла, стирала. От привычной домашней круговерти у неё словно прибавлялось бодрости. В доме часто раздавалось знакомое: «Я стараюсь ради семьи! Ради семьи чего не сделаешь!»
Отец вместе с группой инженеров и бригадой наладчиков работал над новой конструкцией драги — большой плавающей машины для промывания золотоносного песка. Такие машины и выпускал завод, на котором он работал. Вечерами собирались его сослуживцы. Они рассматривали чертежи, пили горячий чай и азартно спорили.
— Современная драга — это целый комбинат. Надо, чтобы ковш сразу поднимал 500–600 литров, — возбуждённо говорил отец.
— Хорошая идея, но пока не пустят сборочный цех, об этом рано мечтать, — перебивал его мужчина в больших роговых очках…
Старшая сестра, охладев к музыке, зачастила в кружок художественной самодеятельности. Мать сшила ей нарядный цегедек[5], подол и пояс отделала бархатом и цветной тесьмой. Надев его, Дарима долго крутилась перед трюмо, танцевала, подпевая сама себе. Приглашённый школой из музыкального театра балетмейстер репетировал каждый день, и Дарима, очень весёлая, возвращалась домой под вечер.
Так у каждого шла своя жизнь… Были свои радости и у Нилки. Теперь она одна ходила на уроки музыки.
…Сегодня у Елены Константиновны торжественный, необычный вид.
— Мы идём на концерт. В нашем городе проездом симфонический оркестр. Такое событие нельзя пропустить, — говорит она, надевает пальто, берёт девочку за руку, и они идут в музыкальный театр.
Зрительный зал полон. Дирижёр взмахивает палочкой, и первые негромкие звуки заполняют зал. Нилка забывает, что сидит в театре, она видит, как на крутом косогоре сбились стайкой улусные ребятишки. Свинцовым блеском отливает тёмная вода в реке, а над головой ровным колышущимся клином с громким курлыканьем пролетают журавли.
Почему лето сменяет осень? Зачем же улетают журавли? Как рассказывала бабушка Олхон, раньше буряты ставили юрты рядом с гнёздами журавлей: где журавль, там в доме счастье…
* * *
Пришла ранняя весна. В городе ждали ледохода. О нём говорили знакомые при встрече и те, кого просто свёл случай на автобусной или трамвайной остановке.
Уже на деревьях набухли почки, а река всё не могла сбросить тяжёлый ледовый панцирь. Снег давно смело ветрами, и во льду обнажились глубокие трещины, похожие на застывшие белые молнии. Они уходили в метровую толщу, разветвляясь на десятки причудливых зигзагов. По ледяному полю бесстрашно бегали мальчишки.
Сегодня Нилке не удалось пробраться на лёд. Люди с красными повязками на рукавах выстроились цепочкой вдоль берега. Молоденький розовощёкий милиционер выкрикивал в рупор:
— Товарищи, не выходите на лёд! Будьте осторожны!
Толпа глухо гудела. Взгляды людей были прикованы к небольшому чёрному катеру, неизвестно откуда появившемуся на середине реки.
— Ледокол пришёл!
— Давай, «Муромец», жми как следует! Открывай навигацию! — раздавались вокруг голоса.
Казалось, ледокол беспомощно застыл, зажатый огромными белыми полями. Но приглядевшись, Нилка увидела, что вокруг него уже образовалась большая полынья. «Муромец» упорно карабкался на льды. Иногда его нос задирался почти вертикально, и толпа замирала, ожидая, чем кончится этот натиск.
Надсадно гудели моторы, слышался скребущий лязг железа. Корпус катера дрожал от напряжения.
Как бы отдохнув и воспрянув духом, он начинал двигаться, и льдина с тяжким вздохом оседала под ним, раскалывалась на куски, и тёмная вода вырывалась на волю.
Люди на берегу облегчённо вздыхали, как будто вместе с экипажем проделали эту трудную работу, и опять затихали, не отрывая глаз от «Муромца», когда тот шёл на очередной приступ. А ребятишки беззаботно бегали по набережной и грызли, как леденцы, прозрачные длинные сосульки, которые выламывали из льдин, изрезанных солнечными лучами.
5
Цегедек — длинный сарафан, национальная одежда буряток.