Эти ароматы, говорим мы, еще хранила покинутая и холодная комната. Калиостро нагнулся, взял щепотку пепла и долго, с какой-то дикой страстью вдыхал его.
— Если бы я мог, — прошептал он, — так же впитать то, что осталось от души, когда-то общавшейся с тем, что стало этой золой!
Затем он окинул взором железные решетки, унылый двор соседнего дома и осмотрел с лестницы разрушительные следы пожара, уничтожившего верхний этаж этого потайного помещения.
Зловещее и прекрасное зрелище! Комната Альтотаса исчезла: от стены осталось только семь или восемь зубцов, которые во время пожара лизали огненные, всепожирающие языки, оставляя свой черный след.
Для всякого, кому даже не была известна грустная история Бальзамо и Лоренцы, невозможно было не пожалеть об этом разрушении. Все в этом доме дышало павшим величием, минувшим блеском, потерянным счастьем.
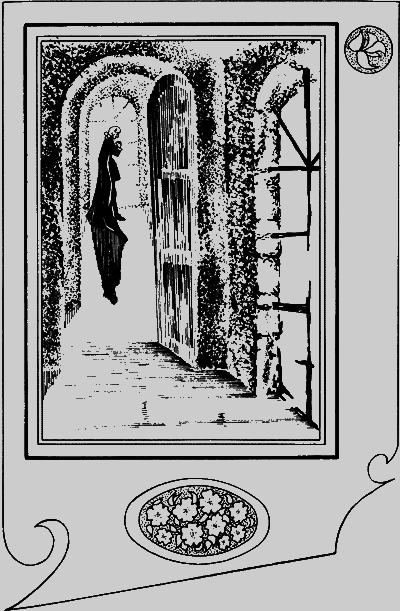
Калиостро между тем погрузился в свои думы. Этот человек сошел с высот своей философии, чтобы на миг возродить в себе ту частицу мягкой человечности, что зовется сердечными чувствами, чуждыми рассудочности.
Но, вызвав из уединения сладостные тени и отдав дань Небу, он решил на этом покончить счеты с человеческой слабостью. Вдруг взор его остановился на каком-то предмете, блеснувшем среди всего этого горестного разгрома.
Он нагнулся и увидел в щели паркета наполовину погребенную в пыли маленькую серебряную стрелку, которая, казалось, только что выпала из волос женщины.
Это была одна из тех итальянских шпилек, которыми тогдашние дамы любили закалывать локоны прически, становившейся слишком тяжелой от пудры.
Философ, ученый, пророк, презиравший человечество и хотевший, чтобы само Небо считалось с ним; человек, сумевший побороть столько душевных мук в себе и исторгший столько капель крови из сердец других, — Калиостро, атеист, шарлатан, насмешливый скептик, поднял эту шпильку, поднес ее к губам и, уверенный, что никто не может видеть его, позволил слезе появиться на глазах.
— Лоренца! — прошептал он.
И больше ничего. В этом человеке было что-то демоническое.
Он искал борьбы, и в ней было для него счастье.
Пылко поцеловав эту священную реликвию, он открыл окно, просунул руку через решетку и бросил хрупкий кусочек металла за ограду соседнего монастыря — на ветки, в воздух, в пыль, неведомо куда.
Он хотел этим наказать себя за то, что дал волю сердцу.
«Прощай! — сказал он крохотному предмету, терявшемуся, может быть, навсегда. — Прощай воспоминание, посланное мне для того, чтобы растрогать меня и, несомненно, ослабить мои силы. Отныне я буду думать только о земном.
Да, этот дом будет осквернен. Что я говорю? Он уже осквернен! Я открыл эти двери, внес свет в эти стены, увидел внутренность гробницы, разрыл пепел смерти.
Поэтому дом осквернен! Пусть же он будет осквернен до конца и для какой-нибудь благой цели!
Другая женщина пройдет по этому двору, ступит ногой на лестницу, быть может, станет петь под этими сводами, где еще звучит последний вздох Лоренцы!
Пусть будет так. Но все эти святотатства совершатся ради одной цели — послужить моему делу. Если Бог здесь теряет, то Сатана только выигрывает».
Он поставил фонарь на лестницу.
— Эта лестничная клетка будет снесена, — сказал он. — Точно так же и все это внутреннее помещение. Тайна рассеется, дом останется скрытым убежищем, но перестанет быть святилищем.
Он наскоро набросал на листке записной книжки несколько слов:
«Господину Ленуару, моему архитектору.
Расчистить двор и вестибюли; поправить каретные сараи и конюшни; сломать внутренний павильон; снизить дом до трех этажей. Срок: неделя».
— Теперь, — сказал он, — посмотрим, хорошо ли видно отсюда окно милейшей графини.
И он подошел к окну на третьем этаже.
Отсюда глаз охватывал все фасады на противоположной стороне улицы Сен-Клод, возвышающиеся над воротами.
Напротив, не дальше как в шестидесяти футах, виднелось жилище Жанны де Ламотт.
— Это неизбежно: обе женщины увидят друг друга, — сказал Калиостро. — Прекрасно.
Он взял фонарь и спустился с лестницы.
Через час с небольшим он вернулся к себе и послал план работ архитектору.
Остается сказать, что на следующий день дом наполнился пятьюдесятью рабочими, молотки, пилы и кирки застучали повсюду; трава, сложенная в большую кучу, дымилась в углу двора; вечером, возвращаясь домой, прохожий, верный привычке к ежедневным наблюдениям, увидел, что большая крыса висит во дворе, повешенная за лапку под кружалом, а вокруг нее собрались каменщики и подручные, потешающиеся над седыми усами и почтенной полнотой своей жертвы.
Эта молчаливая обитательница дома сначала была заживо замурована в своей норе упавшей каменной плитой. Когда же плита была поднята лебедкой, то полумертвую крысу вытащили за хвост и отдали на потеху молодым овернцам — подручным каменщиков. От стыда или от удушья, но крыса тут же закончила свое существование.
А прохожий произнес над ней следующее надгробное слово:
— Вот кто был счастлив в течение десятилетия!
Sic transit gloria mundi[10].
Дом через неделю был восстановлен так, как приказал Калиостро архитектору.
XXIV
ЖАННА В РОЛИ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ
Кардинал де Роган получил через два дня после посещения Бёмера записку следующего содержания:
«Его высокопреосвященство господин кардинал де Роган, без сомнения, знает, где он будет ужинать сегодня вечером».
— От прелестной графини, — сказал он, понюхав листок. — Я поеду к ней.
Вот для чего г-жа де Ламотт попросила об этой встрече.
Из пяти лакеев, нанятых к ней на службу его высокопреосвященством, она выделила одного — черноволосого, кареглазого и, судя по цвету лица, сангвиника с изрядной примесью желчи. По мнению наблюдательницы, налицо были все признаки активной, смышленой и упорной натуры.
Она позвала его к себе и в какие-нибудь четверть часа вытянула из его послушания и его проницательности все, что хотела.
Этот человек проследил за кардиналом и донес Жанне, что видел, как его высокопреосвященство дважды за два дня ездил к господам Бёмеру и Боссанжу.
Теперь Жанна знала достаточно. Такой человек, как г-н де Роган, не станет торговаться; такие ловкие купцы, как Бёмер, не упустят покупателя. Ожерелье, должно быть, уже продано.
Продано Бёмером. Куплено г-ном де Роганом! А тот ни звуком не обмолвился о том своей поверенной, своей любовнице!
Это было серьезным знаком. Жанна наморщила лоб, закусила свои тонкие губы и написала кардиналу уже известную записку.
Господин де Роган приехал вечером. Но перед этим он отправил корзинку с токайским вином и разными гастрономическими редкостями, точно ехал на ужин к Гимар или к мадемуазель Данжевиль.
Эта деталь не ускользнула от Жанны, как и ничто не ускользало от нее; она нарочно не велела подавать к столу ничего из присланного кардиналом. Оставшись с ним наедине, она начала разговор в довольно нежном тоне.
— По правде говоря, меня очень огорчает одно, монсеньер, — сказала она.
— О, что именно, графиня? — спросил г-н де Роган с выражением подчеркнутой досады, которое не всегда служит признаком досады действительной.
— Вот в чем причина моей досады, монсеньер: я вижу… нет, речь не о том, что вы больше не любите меня, вы меня никогда не любили…
— Графиня, что вы говорите?!
— Не оправдывайтесь, монсеньер, это было бы потерянным временем.
— Для меня, — любезно подсказал кардинал.
— Нет, для меня, — резко возразила г-жа де Ламотт. — Да к тому же…
— О графиня… — начал кардинал.
— Не приходите в отчаяние, монсеньер: мне это совершенно безразлично.
10
Так проходит мирская слава (лат.).