— Не надо… — шелестом долетел до нее Ольгушин голос и едва приметная улыбка тронула ее губы, в уголках их розово запенилось.
— Живая! Ты это брось мне… пужать, — задохнувшись, бормотала Гаша и тискала ей под голову свой скомканный платок. Ольгуша подняла вдруг руку, судорожно зашарила по боку, ища сумку.
— Йод… возьмешь… Не разбей, — отчетливо произнесла она. — И не плачь. Мне двадцать лет… было. Скажешь… Павлуше, что… — и коротко хрипнув, уронила на бок голову; из уголка рта к подбородку побежала струйка розовой сукровицы.
— А я не плачу, я в последний раз… Ты не сумлевайся, Ольгуша, я не буду, — бестолково твердила Гаша, плача и размазывая грязь по лицу. — А Огурцову я скажу, ты не сумлевайся… Я же знаю, зачем в его отряд, а не с отцом пошла… И как ты на него глядела, я видела… Я дотошная, сама скрозь дохожу, мне и спрашивать ни о чем не надо было. Когда доктором станешь, приеду до тебя лечиться. Давай-ка я тебя за баррикаду отнесу, там затишек…
На город сходили вечерние сумерки, прозрачные, облегченные; так и не разрешившаяся гроза неслышно отползла на север, будто убедилась, что здесь ей делать нечего: за грохотом драки, людям не услышать ее раскатов.
По западной кромке тучи волочилась красная струя зари.
…К ночи курские самооборонцы и керменисты овладели броневиком. Затянув его на канатах через тот проход, который был прикрыт фаэтоном старого осетина-извозчика, занялись осмотром. В стаканах и флаконах из-под духов сносили со дворов бензин. За ночь машину привели в порядок. Заслышав из-за баррикады шум мотора, казаки стали тихо сниматься и отходить с Госпитальной…
На другой день снова был бой, и курчане вышли за пределы своей слободки. Город дымился. День ото дня по воле большевистского штаба бои принимали все более организованный характер. От мятежников освобождали дом за домом, улицу за улицей.
Время исчезло для Гаши; себя она вспоминала лишь в минуты перед коротким сном, в котором перед ней вновь и вновь проходили картины перестрелок и рукопашных схваток, лица близких и навеки утрачиваемых людей. Как прежде Ольгушу, так теперь ее, на курских баррикадах называли сестрицей и в редкие часы передышек наперебой зазывали к своему котелку.
Она видела, как умирают люди, как роднятся они на виду у смерти. На ее глазах проливали кровь голубоглазый красавец Саша Гегечкори со своими молодцами-грузинами и суровый Левандовский, командир грозненского пролетарского отряда. Видела она и желтолицых китайцев, добровольческий отряд которых геройски сражался в чужой стороне за дело братьев-пролетариев. А в самый трудный день, когда, казалось, нет больше, сил и белобандиты вот-вот восторжествуют, пришли те, именем которых Гашу, как и других казачат, пугали с колыбели, — ингуши. И она видела, как они умирали плечом к плечу с русскими и осетинами, китайцами и грузинами. И они тоже называли ее сестрой…
После смерти Ольгуши Гаша и думать забыла о возвращении домой. На ней была Ольгушина косынка с крестом, на нее легли и заботы подруги. Притупилась и думка об Антоне. И вот…
В том самом штабе обороны на Воздвиженской, в той же комнате, где Гаша впервые увидела Ольгушу, при той же лампе она с Варварой Марковной перематывала стиранные днем бинты, когда вошедший старичок-доктор. Питенкин, старожил и патриот Курской слободки, сказал:
— Интересные времена наступают: казаки пошли на нашу сторону. Вон там один израненный сидит, пять дней штаб наш разыскивал… Необыкновенной физической закалки и выдержки человек, я вам скажу… Своего полковника, говорит, стукнул, интересные бумаги принес. Яков Петрович полагает, что это драгоценные документы для истории, ойи с головой изобличают мятежников…
Гаша, не слушая больше, встала и с помертвевшим сердцем широко раскрыла дверь. Но от порога противоположной двери, слабо освещенный отдаленной лампой, глянул на нее совсем чужой человек: старый и сутулый, с заросшим лицом и запавшими глазами. Он сидел на табуретке, скособочившись, и держался левой рукой за перевязанное правое плечо, и жадно следил, как небольшой военный с бородкой и ремнями поверх рубахи, придерживая возле уха очки в тонкой светлой оправе, читает бумаги, выложенные из офицерского планшета. Гаше пора уже было закрыть дверь, а она все еще стояла у порога и не могла оторвать взгляда от того человека. И сердце ее стучало неровно, и от висков никак не отливала кровь. Человек вдруг поднялся и, качнувшись, сделал шаг к ней.
— Гаша, — чуть слышно сказал он. И было в его голосе столько удивленья, тоски, призыва, любви, сколько могло быть только у одного человека на свете.
Гаша кинулась к нему с пронзительным криком. Люди, окружившие их, молча ждали, пока они разожмут объятия. Старичок-доктор глубокомысленно говорил вздыхающей Варваре Марковне:
— Эко диво дивное, чудо чудное… Конечно ж, встреча такая в наше необъяснимое время вполне объяснима. Вполне, я полагаю… Не видите ли вы в ней знаменье эпохи, а? Как вы находите?
— Знаменье, не знаменье, а хорошо, что тут, у нас, встретились, — ворчливо отозвалась прачка.
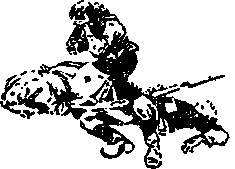
Часть вторая
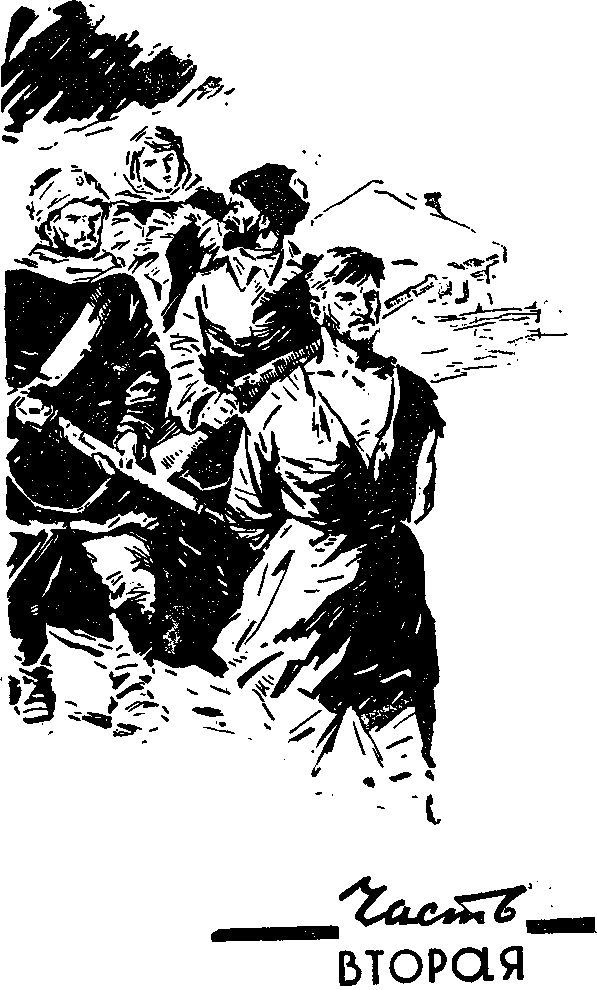
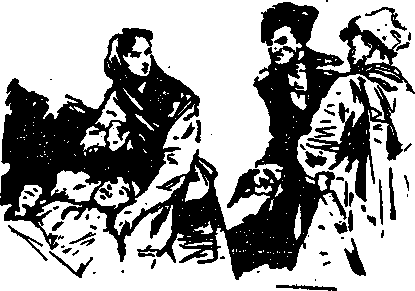
С наступлением сумерек бой прекратился. Кибировцы откатились к Николаевской, за цепь буревших издали окопов. На равнине, между станицей и селением, вдоль кукурузных загонов, в истоптанной будыли и на выгоне остались лежать темные комочки — трупы.
В окопах у христиановцев наступила тишина. Бойцы вылезли на сухой обгоревший дерн за окопами: расправляли затекшие спины, курили, вытирая грязные лица, подставляли их навстречу сбегающей с гор прохладе.
Мефодий ощупал еще теплый ствол пулемета, громко с усмешкой сказал:
— Кажись, на сегодня ты свое отработал… Поостынь теперь. Поутру опять запрягу…
Никто не отозвался на его шутку. Смертельная усталость, сменившая то бешеное возбуждение, которое владело казаками в течение целого дня, сковала тела, замкнула рты.
Бой начался на заре. Правый край обороны, где стояли казаки и бойцы Сосланбека Тавасиева, оказался в центре удара. Кибировцы лезли сюда с настойчивостью одержимых, так как приподнятые берега Белой речки, по течению которой они могли подбираться почти до околицы селенья, были прикрытием более надежным, чем кукуруза, зыбкая, ломкая и не подходившая вплотную к Христиановскому — между ним и николаевскими загонами был еще открытый и ровный, как стол, сожженный зноем выгон.
Сюда, на правый край, по приказу керменистского штаба, был переброшен единственный пулемет. Жайло и Легейдо, еще на фронте слывшие отличными пулеметчиками, пролежали перед ним весь день, сменяя друг друга. Незаметно подкрадываясь берегом, кибировцы неожиданно появлялись на лугу перед окопами и неслись к селу, грозя смести его укрепления. Только пулемет, безотказно бивший в ожесточившихся руках, да меткая ружейная пальба тавасиевских стрелков всякий раз спасали положение, заставляя кибировцев ложиться и отползать за берег.
Лишь вечером, когда враг, так и не отважившийся на рукопашную, отошел в станицу, в окопах произошла разрядка. Многие спали стоя, уронив голову на глиняный бруствер. После грохота боя странными и далекими казались мирные естественные звуки, о существовании которых успело как-то забыться: хруст сухих комочков земли под сапогами, шелест бумаги под пальцами, свертывающими цигарки, посапывание спящих.
Короткие южные сумерки быстро загустели, настала ночь. Вдоль всей линии окопов засветилась вереница огоньков цигарок. Ветер, налетавший с поля, приносил пыльное дыхание остывающей земли, запах сожженного металла и едва уловимый, хорошо знакомый воинам васильковый навет начавшегося разложения.
На равнине угадывалось какое-то непонятное движение: скользили тени, собирались в сгустки, снова бесшумно рассасывались. В окопе у христиановцев примолкли разговоры; там насторожились.