Он был точно такой…
Он был точно такой, потому что я среди этих весенних волн и дуновений вспомнила о вчерашнем белокуром негре, и вот сейчас он шел прямо ко мне. Он шел прямо ко мне, высоко откинув голову в мелких кудряшках, и длинные его ноги как будто слегка пританцовывали, потому что он старался ступать только на самые высокие кустики травы…
Я открыла рот.
Согласитесь, такое не часто бывает: вот вы помечтали, и вот ваша мечта движется по школьному пустырю, слегка оттопырив карманы брюк большими пальцами сильных, взрослых, наверное, твердых рук. И чтоб не произошло ошибки, вы должны крикнуть: «Это я! Это я!» — но крикнуть не можете.
И я не могла.
Рот у меня, кажется, не закрывался, а глаза все вбирали и вбирали, какая у него уверенная походка, какой ремень, какие губы, резко очерченные и со вдавленными уголками, будто тайная улыбка не сходит с них.
Я одна стояла в дверях сарая, освещенная солнцем и вся на виду. Может быть, именно поэтому ошибки не произойдет?
— Герцогиня из девятого «Б»? — спросила меня мечта легким, будто отлетающим голосом.
Я кивнула на этот вопрос, согласная с «герцогиней», с его манерой оттопыривать карманы, улыбаться, спрашивать. Я вообще выразила согласие со всем, что должно было произойти, со всем, что вот сейчас, сию минуту произойдет.
— Коллегу Громова, по имени Владимир, нельзя ли на минуточку?
Пожалуй, он спрашивал об этом меня. И пожалуй, больше нечего было ждать, не на что надеяться. Но я ждала. Однако дождалась только того, что из сарая вышел Громов с грязными руками, и потому парень (или Прекрасный Незнакомец, считайте как хотите) потряс его за локоть. И так, придерживая за локоть, отвел в сторону на такое расстояние, что ни одного слова из их разговора я не могла услышать.
Однако каким-то неведомым путем я поняла, что первые фразы имели ко мне прямое отношение. Причем парень (как я потом узнала, его звали Макс Поливанов) спросил у Громова о чем-то с уверенной надеждой. Но Громов засмеялся отрицательно, затряс головой. А напрасно. Потому что не обещал чего-то он как бы от моего имени, в то время как я была согласна.
Я была согласна идти с этим Максом Поливановым на Откос, на танцы и даже на край света.
Но увы! Как было совершенно ясно, меня никто не собирался туда приглашать. Теперь они говорили совсем не обо мне. Разговор у них шел легкий — все в той же манере как бы мимоходом о чем-то спрашивалось и что-то отвечалось. Даже не обсуждали они какие-то свои проблемы, а информация незначительная, мелочная перескакивала от одного к другому. Информация, не имевшая ко мне никакого отношения.
Глава IV
Мне кажется, ни в одном городе на свете не проходит такого факельного шествия, как в нашем. Наверное, и в других факелы зажигают и несут к определенному месту. Но у нас, чтоб подняться к Обелиску, надо несколько раз обогнуть Гору. Надо пройти по вечным, узеньким улицам, почти касаясь старых стен, на которых до сих пор сохранились выбоины от осколков и пуль… И чем выше ты поднимаешься в гору, тем шире перед тобой расстилаются огни внизу — и настоящие, и отраженные в море.
И в конце концов на каком-то витке, возле какой-нибудь видавшей виды калитки или лестницы, тебе начинает казаться, что ты с Городом — одно. Что вот сейчас у тебя вырастут крылья, и ты поднимешься над ним. Или, наоборот, не поднимешься, а через минуту по главному спуску сбежишь к морю, к кораблям, и мгла расступится перед тобой, поголубеет, и увидишь не привычное розовое здание третьей школы, а что-то таинственное, будто приснившееся. Улицу, например, какой на этом месте, да и нигде в мире, не существует. И ты пойдешь по ее блестящим голубым булыжникам, уже как бы не девчонкой, а взрослой. И взрослое, непонятное, еще не случившееся, но манящее счастье охватит тебя.
Я точно помнила, в каком месте такое нашло на меня в прошлом году. Просто толкнуло в грудь, и я увидела другое море, другой спуск, другой берег. Я люблю наш Город и простым, знакомым, а тут я готова была запеть или даже закричать от любви. И раскинуть руки от предчувствия, что скоро-скоро мне будет в моем Городе еще лучше.
И сегодня, подходя к старой акации и к воротам, сразу от которых начиналась виноградная беседка, я приготовилась: повторится, не повторится прошлогоднее? Там еще сирень цвела и пахла, переваливаясь через забор из беленого ракушечника, а в глубине двора что-то ловило и отпускало огни наших факелов, и эти таинственные, неопознанные отсветы вместе с цветочным запахом ночи что-то обещали…
Я уже приготовилась пережить это чувство снова, как увидела Поливанова. Он стоял чуть дальше «моего» места, облокотившись на ветхую балюстрадку, и выглядел так, будто как раз пришел из таинственной взрослой страны, куда, между прочим, уже целый год меня обещали позвать.
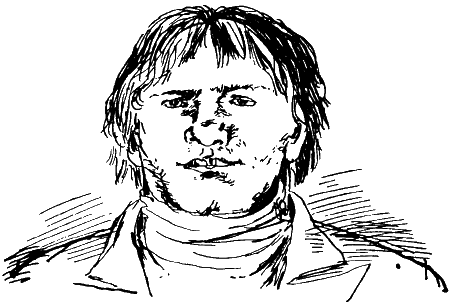
Мы с ним даже как бы встретились взглядами издали. И я даже сделала глупое движение вперед, я на секунду выпала из рядов, прежде чем догадалась: не меня он ждет здесь у спуска. Он даже не кивнул мне. Рядом стоял его приятель Квадрат в красной водолазке и блайзере, застегнутом на все пуговицы, но все равно простак простаком.
Когда наша колонна поравнялась с ними, они одинаково подняли руки, приветствуя кого-то. И в то же время Громов, он шел чуть впереди меня, сделал какое-то неуловимое движение, вдруг засуетился и, меняясь местами с соседями, оказался рядом с Викой. А потом, оттирая кого-то плечом, пятясь, очень быстро он и Вика протиснулись к краю колонны. Причем свой факел Вика сунула Тоне Чижовой, а Громов отдал Шунечке. И теперь те шли, неся в каждой руке по факелу и оглядываясь: что же все-таки произошло?
Хотела бы я, чтоб и мне кто-нибудь мог ответить на этот вопрос.
— Куда они? — спросила наконец Шунечка. — Пожар там, что ли?
Шунечка наша была святая простота, как говорила моя мама. Она и дальше пыталась что-то выяснить, наступая на пятки Мишке, но тут возник, проявился из ничего наш физрук и вполголоса, но очень кстати скомандовал:
— Ногу взять, ногу! Разговорчики? В строю — отставить! Ногу…
Сам Мустафа Алиевич вышагивал рядом, для примера так гордо откинув седую голову, что поневоле подтянешься.
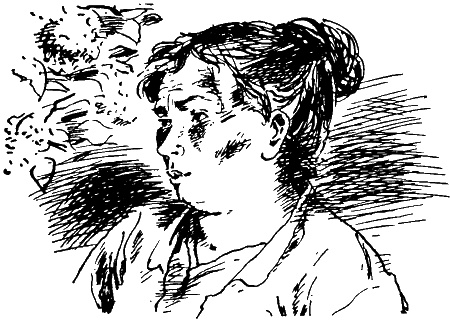
Однако Марта Ильинична, шагавшая сзади нас, не могла упустить случай, принялась спрашивать, как будто ни к кому не обращаясь:
— Что это значит? Что бы это могло значить? Ну, Ларочка, как хотите, а я бы им этого не разрешила.
— И я бы нет, — усмехнулась вполголоса «Ларочка», — да кто нас спрашивает? А кричать? ЧП устраивать? Вы уж извините, но это мой класс. А у меня своя раскладка. Да.
Я не увидела, но спиной почувствовала, как Марта Ильинична морщится от этого нового словечка — раскладка. А дело заключалось не в словечке, в том оно заключалось, что Лариса наша была молода, следовательно, еще многое могла понять.
Она, как и я, смотрела вниз на спуск с Горы, весь облитый голубым лунным светом, длинный, таинственный, неизвестно куда ведущий. По этому спуску, нарисованные исключительно серебристыми и черными красками, удалялись фигуры. Одна высокая, гибкая, созданная для того, чтобы взлетать по реям или хотя бы ласточкой падать с вышки в море; рядом — легкая, танцующая, счастливая своей легкостью, а две — вполне обыкновенные.
Возможно даже, наша Классная Дама была настолько молода, что и у нее дрогнуло и защемило сердце от луны, от голубых булыжников, от того, что Макс Поливанов был похож на капитана Грея…
Между тем мы шли дальше, поднимались петлями по склону, и я думала о том, что Громов (или сам Поливанов?) сделали правильный выбор. Знали они, кого выбирать, утешала я себя, уж сколько раз приходилось мне удирать с уроков и даже первой, но восьмого мая вот так вот сбежать с Горы я бы не смогла…