«версийного стиха»). Здесь средством ритмизации становятся «инверсия, анафоры и
другие риторические фигуры речи»; создаваемая с их помощью симметричность речи
образует своеобразный ритмический облик клюевской прозы как художественной, так
и публицистической». В статьях 1919 года эту ритмизацию данный исследователь
обнаруживает на уровне целых фрагментов, что дает повод считать произведение не
только «стихоподобным», но и настоящим «стихотворением в прозе» 2. Подобное же
отмечается А. Казаркиным, назвавшим всю «Гагарью судьбину» «прозаической
поэмой»3.
Проза Клюева (несомненно, в большей степени, чем его поэзия, подверженная
известному влиянию символизма) представляет собой соединительное звено между
литературой XX столетия и древнерус-
1 Пономарева Е. Проза Николая Клюева 20-х годов. С. 124-125.
2 Орлицкий Ю. Б. Проза и стих в творчестве Н. Клюева и других поэтов
новокрестьянского направления//Вытегорский вестник. 1994. № 1. С. 42.
3 Казаркин А. Игровое и трагедийное в поэмах Клюева // Николай Клюев: образ
мира и судьба. С. 49.
ской. Оставаясь уникальной по своему характеру, она, однако, не замыкается сама в
себе, а имеет много «сродников» в отечественной словесности, ибо, по словам
18
исследователя, Клюев как «прозаик — подлинно поэт, ощущающий язык как
сокровенное лоно культуры. При всей разности и значительности это, думаю, —
Алексей Чапыгин, в чем-то и Андрей Платонов, и Леонид Леонов, Валентин Распутин,
и Василий Белов, и Владимир Личутин, а возможно, и Александр Солженицын. Мне,
скорее всего, возразят и скажут: "Солженицын — другое"... Но замечу, что эта вязкость
слова, эта приверженность к языковой стихии, несмотря на многие несхожести, все-
таки роднит их»1. Наметится ли в поисках новейшей литературы сближение с прозой
Клюева, за которой стоит богатейшая традиция исконной национальной словесности и
духовной культуры, покажет литература наступившего нового времени.
Для читателя же, всецело погруженного в еще такой близкий XX век, с его
вершинными взлетами всей многовековой отечественной культуры и ее падением,
включая трагедию национального самосознания и самого генофонда, проза Клюева,
отобразившая всё это на самых разных уровнях и в завидной многожанровости,
окажется более чем самодостаточной.
Как и в известные далекие времена сердце такого читателя, уязвленное
изображенными в этой прозе «страданиями человеческими», вполне могло бы впасть в
глубокое помрачение, если бы само же творчество Клюева не содержало в себе ко
всему прочему еще и мощного заряда преодоления — через очищение духа и
воздействие неувядаемой красоты.
Александр Михаилов
1 Лазарев В. Я. Об особенностях творческого развития Николая Клюева и об их
современном восприятии // Вытегорский вестник. С. 49.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
РАЗДЕЛ I
Автобиографические штрихи
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
19
20
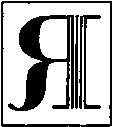
ИЗ ЗАПИСЕЙ 1919 ГОДА
— мужик, но особой породы: кость у меня тонкая, кожа белая и волос мягкий.
Ростом я два аршина, восемь вершков, в грудях двадцать четыре, а в головной обойме
пятнадцать с половиной. Голос у меня чистый и слово мерное, без слюны и без лая;
глазом же я зорок и сиз: нерпячий глаз у меня, неузнанный...
Принимая тело свое, как сад виноградный, почитаю его и люблю неизреченно
(оттого и шелковая рубаха на мне, широкое с теплой пазухой полукафтанье, ирбитской
кожи наборный сапог и персидского еканья перстень на пальце). Не пьяница я и не
табакур, но к су-ропному пристрастен: к тверскому прянику, к изюму синему в цеже-
ном меду, к суслу, к слоеному пирогу с куманичным вареньем, к постному сахару и ко
всякому леденцу.
В обиходе я тих и опрятен; горница у меня завсегда, как серебряная гривна, сияет и
лоснится; лавка дресвяным песком да берёстой натерта — моржовому зубу белей не
быть. В большом углу Спас поморских зеленых писем — глядеть не наглядеться: лико,
почитай, в аршин, а очи, как лесные озера... Перед Спасом лампада серебряная
доможирной выплавки, обронной работы.
В древней иконе сердце и поцелуи мои. Молюсь на Андрея Рублёва, Дионисия,
Парамшина, выгорецких и устюжских трудников и об-разотворцев...
Родом я из Обонежской пятины - рукава от шубы Великого Новгорода. Рождество
же мое — вот уже тридцать первое, славится в месяце беличьей линьки и лебединых
отлетов — октябре, на Миколу, черниговского чудотворца...
Грамоте я обучен семилетком родительницей моей Парасковьей Димитриевной по
книге, глаголемой Часослов лицевой. Памятую сию книгу, как чертог украшенный,
дивес пречудных исполнен: лазо-ри, слюды, златозобых Естрафилей и коней огненных.
...Родительница моя была садовая, а не лесная, во чину серафи-мовского
православия. Отроковицей видение ей было: дуб малиновый, а на ней птица в
женьчужном оплечье с ликом Пятницы-Параскевы. Служила птица канон трем звездам,
что на богородичном плате пишутся; с того часа прилепилась родительница моя ко
всякой речи, в которой звон цветет знаменный, крюковой, скрытный, столбовой...
Памятовала она несколько тысяч словесных гнезд стихами и полууставно, знала Лебедя
и Розу из Шестокрыла, Новый Маргарит — перевод с языка черных христиан, песнь
искупителя Петра III, о христовых пришествиях из книги латинской удивительной,
огненные письма протопопа Аввакума, индийское Евангелие и многое другое, что
потайно осоляет народную душу — слово, сон, молитву, что осолило и меня до костей,
до преисподних глубин моего духа и песни...
Пеклеванный ангел в избяном раю — это я в моем детстве... С первым пушком на
губе, с первым стыдливым румянцем и по особым приметам благодати на теле моем
был я благословлен родителью моей идти в Соловки, в послушание к старцу и
строителю Феодору, у которого и прошел верижное правило. Старец возлюбил меня,
аки кровное чадо, три раза в неделю, по постным дням, не давал он мне не токмо
черного хлеба, но и никакой иной снеди, окромя пряженого пирожка с изюмом да вина
кагору ковшичка два, чистоты ради и возраста ума недоуменного — по древней
греческой молитве: «К недоуменному устремимся уму. .»
Письма из Кожеозерска, из Хвалынских молелен, от дивногорцев и спасальцев
кавказских, с Афона, Сирии, от китайских несториан, шелковое письмо из святого
города Лхаса — вопияли и звали меня каждое на свой путь. Меня вводили в
воинствующую вселенскую церковь...
21
Жизнь моя - тропа Батыева: от студеного Коневца (головы коня) до порфирного
быка Сивы пролегла она. Много на ней слез и тайн запечатленных.
Я был прекрасен и крылат В богоотеческом жилище, И райских кринов аромат Мне
был усладою и пищей. Блаженной родины лишен И человеком ставший ныне...
Осознание себя человеком произошло со мной в теплой закавказской земле, в
ковровой сакле прекрасного Али. Он был родом из Персии и скрывался от царской
печати (высшее скопчество, что полагалось в его роде Мельхиседеков). Родители через
верных людей пересылали ему серебро и гостинцы для житейской потребы. Али
полюбил меня так, как учит Кадра-ночь, которая стоит больше, чем тысячи месяцев.
Это скрытное восточное учение о браке с ангелом, что в русском белом христианстве
обозначается словами: обретение Адама-Али заколол себя кинжалом...
Меня арестовали на Кавказе; по дороге в тюрьму я угостил конвойных табаком с
индийским коноплем и, когда они забесновались, я бежал от них и благополучно