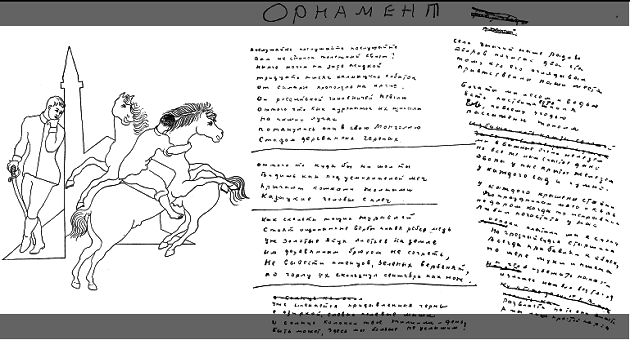
«Телесно осуществленный символ»
Исследователи творчества Есенина, рассуждая о его поэтическом мире, считали его наполненным космической, растительной и зоо(орнито)морфной символикой. Соответственно литературоведы находили «двойников» поэта, его alter ego в образах человека-клена, человека-волка и черного беса; демиургическую роль творца художественной Вселенной, своеобразную божественную ипостась улавливали в образе пророка-поэта; литературные маски усматривали в личинах скомороха, странника (калики перехожей), пастуха, крестьянского сына, хулигана, героя-любовника и франта сродни дворянчику из Пушкинской эпохи; исторические перевоплощения видели в слиянии лирического героя и Пугачева, Номаха и т. д. «Авторское Я» Есенина получалось действительно многогранным, отражающим сложную природную бытийственность и вселенскую многомерность. Есенинское «авторское Я» вобрало в себя череду исторических, социальных и биологических ролей человека. Однако мозаичная множественность ликов есенинского лирического героя и автора-повествователя не искажается в кривых зеркалах, не подчиняется отраженному свету волшебного стекла, не рассыпается на мелкие осколки разбитого вдребезги.
Напротив, индивидуально-авторское лицо создателя задушевной поэзии и своеобразной элегической прозы всегда узнаваемо, под какими бы личинами оно ни было нарочито скрыто! Проблема многоликой сущности автора как самостоятельного персонажа, которым можно увлечься не менее прочих, измышленных Есениным, пока рассматривалась на уровне суммирования множественности заявленных писателем характеров и художественных типов. При рассмотрении прямых авторских утверждений-уподоблений вроде «А люди разве не цветы?» (IV, 206 – «Цветы», 1924) акцент ставился на второй, «цветочной» части как на неожиданной, фигуральной и именно в силу своей метафоричности претендующей на художественную находку.
Мы же хотим заявить о равных правах в мире есенинской поэтики для чисто человеческой (людской) образности, обладающей собственной телесностью и облеченной в плоть . Именно она является отправной точкой для дальнейших сопоставлений, сравнений и даже полных уподоблений иным предметным и неовеществленным реалиям. На человеческой образности построены все олицетворения, из нее исходят полные и частичные мета морфозы , приводящие к превращениям в животных и растения. Космические ассоциации также возникают на сопоставлении с земным «тварным» миром. Ведь автор (помимо того, что он литератор) – прежде всего человек , он смотрит на мир человечьим взглядом, высказывает общечеловеческие суждения, говорит человеческим языком. На этой теоретической посылке строится вся мировая литература; как указывает О. М. Фрейденберг во «Введении в теорию античного фольклора. Лекции» (1939, 1941–1943), «…для писателя мир предстает в образе человека и человеческих переживаний или отношений…». [988]
И на высшей ступени развития цивилизации, по мнению современника Есенина и теоретика античности, одного из крупнейших мыслителей ХХ века А. Ф. Лосева (1893–1988), высказанному в монографии «Диалектика мифа» (1930), «личность есть всегда телесно данная интеллигенция, телесно осуществленный символ». [989] По воспоминаниям Н. Д. Вольпин, Есенин говорил: «Все-таки первое дело для поэта – быть личностью. Без своего лица человека в искусстве нет». [990]
Символика тела как культурологическая проблема
Исследователи выдвигали символику тела как отдельную важную проблему в фольклористике (см. монографии: Золотоносов М. Н. Слово и тело. М., 1999; Кабакова Г. И. Антропология женского тела в славянской традиции. М., 2001), этнологии (см. брошюру: Брандт Г. А. Природа женщины. Екатеринбург, 2000), искусствознании (см. книгу: Кон И. С. Мужское тело в культуре. М., 2003) и лингвистике (см. главку: «Реноминация частей тела человека» в главе «Низкая метафора» в книге: Химик В. В. Поэтика низкого, или Просторечие как культурный феномен. СПб., 2000). А. В. Кулагина при исследовании жанра частушки рассуждала об особом приеме метафоризации: «Олицетворяются, а иногда “очеловечиваются” части человеческого тела: “Нога моя левая, // Чего она сделала?”». [991]
На научной конференции «Фольклор и художественная культура. Современные методологические и технологические проблемы изучения и сохранения традиционной культуры» в Государственном республиканском центре русского фольклора (Москва) 27 ноября 2002 г. прозвучал доклад Л. Н. Виноградовой «Телесные аномалии как признак демонического и сакрального в традиционной культуре», обозначивший роль телесных компонентов персонажа как важных проявлений фольклорных категорий. В литературоведении только делаются первые подступы к освоению широчайшей проблематики телесного. [992]
В области герменевтики древнерусской литературы было сделано наблюдение, ценное возможностью распространения на литературу послепетровского времени; оно же является первоистоком истории проблемы телесности в русской культуре: «Если официальная православная церковная традиция разрабатывала, в основном, линию души в определении человека, а именно вопросы о превосходстве души над плотью, о силах и свойствах души, ее сущности, связи с Богом и т. п., то неофициальная и в особенности народная культура тяготела к развитию “линии тела”, его связи с природой, сходства “малого мира” – человека – с миром большим». [993]
Образные подходы к опредмеченной телесности в русской литературе и фольклоре
Русской классической литературе присуща давняя традиция опредмечивать тело или его составную часть, отдельную деталь и представлять как самостоятельный персонаж, действующий автономно от человека и, более того, обитающий в мире людей. Известны повесть «Нос» (1833–1835) Н. В. Гоголя – любимого Есениным автора, «Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем» В. Ф. Одоевского и др. Протоисточником текстов послужили анекдотические новеллы 1820 – 1830-х годов, имевшие широкое хождение в городской среде.
Фабула гоголевского «Носа» заключается в том, что цирюльник Иван Яковлевич случайно сбрил нос (!) коллежскому асессору Ковалеву. Далее об ощущениях Ковалева говорится: «Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома; в глазах его произошло явление неизъяснимое; перед подъездом остановилась карета; дверцы отворились; выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос!». [994]
Сюжет «Сказки о мертвом теле…» В. Ф. Одоевского основан на том, что Цвеерлей-Джон-Луи, переделанный писарем в иностранного недоросля Савелия Жалуева, обладал при жизни парадоксальной особенностью – «имею я несчастную слабость выходить из моего тела». [995] Герой жалуется: «…Вы не можете себе вообразить, как трудно без тела показываться!..». [996] Далее описано странное явление: «И при этих словах в темном углу стало показываться какое-то лицо без образа; то явится, то опять пропадет…». [997] Показаны трудности существования бестелесного человека: «…говорят вам, что у меня теперь со мною рук нету – они остались при теле…». [998]
На Рязанщине бытует сказка о мертвом теле матери, которым ее сын манипулирует как живым человеком и наживает этим себе состояние. Произведение относится к жанровой разновидности бытовых сказок о герое-дураке (дурне), который находчивыми, но аморальными, на первый взгляд, действиями заслуживает уважения. Хитроумные проделки героя в одном из сказочных эпизодов сосредоточены на неживой телесности матери, чем и обусловлен дальнейший сюжетный поворот: «Взял дурак мать мёртвую, посадил на тачку, повёз в Москву. Привёз, поставил на площади. Купил он хлеба, намазал мёдом и просить мальчика продавщицы. h оворить мальчику: “Поди дай ей хлебушку”. Пришёл мальчик, хотел дать, а дурак и h оворить, что мать его не может сама взять, сунь в рот. Стал мальчик ко рту подносить, толкнул мать, да она и упала. А дурак h оворить: “Убил мою мать мальчик, позову милиционера”». [999]