Впереди, исторгая смрад горелых человеческих тел, чадно дымил БТР; справа, на крыши приземлялись последние десантники, и Димка, будто затравленный сторожевыми псами, кинулся в тупик, к прорабским вагончикам «Мосинжстроя».
— Вперед-вперед. Скорей-скорей. — Наливающиеся ватной тяжестью конечности топтались почти на месте, а рядом, с глумливым посвистом летели, и рикошетом цокали пули.
Димка бросил на землю бесполезный теперь карабин, и с кровавым хрипом выталкивая отчаянные усилия воли, продолжал и продолжал, будто в кошмарном сне, передвигать прекратившими подчиняться ногами.
И вдруг, тупая горячая боль, с лопающимся бамбуковым хрустом переломила пополам позвоночник.
— И это, все?! Значит… это, все?! — Еще не веря, он удивленно смотрел, как закрутились торчащие из оврага черные деревья, празднично-желтого цвета церковь на углу, строчащий с пояса десантник, рустованная стена музея, вагончики и двор тупика.
— Господи, что же это?! — Димка сделал еще пару неверных шагов, и рухнул навзничь.
Ясное, в редких облаках небо, спокойно глядело в него свежей утренней чистотой, и этому небу было совершенно безразлично, что творится там, внизу, в суетном и жестоком мире; там, где живое превращается в мертвое, а мертвое — в живое.
Небу было безразлично, ибо оно существовало в ином измерении, которое называется вечностью, где причины и следствия давно прекратили меняться местами, во взаимном порождении друг друга, ибо уравновесили себя в абсолютной гармонии ставших единым целым противоположностей.
— Завтра — двадцать пятое октября… Промедление — смерти подобно… Революция — как искусство… — Заученные в школе фразы с кристальной мелодичностью прошли мимо, и уплыли куда-то вверх, к облакам.
И Димка почувствовал, что жизнь вместе с кровью истекает сквозь перебитый пулей позвоночник; истаивает, гаснет будто огарок, и что это уже необратимо, и навсегда.
Ему стало невыносимо жалко себя; на несколько секунд перед ним появились: мать, сестра и бабушка, которые почему-то сидели в креслах, и казалось, они все видели, знали и понимали.
Дмитрий хотел подняться и взять их за руки, либо, просто позвать, но уже не мог ни повернуться, ни крикнуть.
Усатый десантник наклонился над ним и посмотрел прямо в глаза своей жертве.
— Пацан совсем, — донеслось как сквозь двойное стекло, и Димка, обрадовавшись этому участию, хотел попросить о помощи — сказать, что он жив, и что ему очень больно, и что он ни в чем не виноват, но губы и язык не подчинялись усилиям рассудка, и он заплакал от отчаяния и безысходности.
Усатое лицо солдата размазалось и уплыло далеко назад, и Димка понял, что принесший ему смерть — уходит; мерное цоканье сапог затихало с каждым шагом, пока не исчезло совсем, за пределами слышимости.
— Все в жизни ложь и мишура. — Как последний пузырек воздуха, покинувший альвеолу утопленника, всплыла из глубин сознания мысль, и Димкины глаза застыли в последнем, почти радостном изумлении; и в них, теперь уже навсегда отразилось, в легкой облачной шуге, голубое, бездонно-стеклянное небо.
Алексей Поликарпов
Южный крест
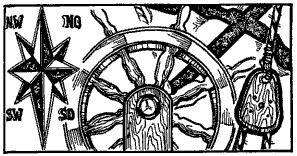
В основу повести легли реальные события русской истории начала прошлого века. Да, действительно жили на свете такие люди. И они ушли в южные моря в поисках счастья и свободы. И судьба играла их жизнями прихотливо и жестоко. И многие погибли, оставив боль и светлые воспоминания о сопричастности к их деяниям у оставшихся живых товарищей.
Достоверность — прежде всего в документах, которых, увы, сохранилось немного. Но за каждой строкой — кровь, кипение страстей, непримиримые столкновения, предательство и святая, самоотверженная дружба. И невольно воображение дорисовывает то, что кроется за казенным слогом вахтенного журнала. Так угадывается течение могучей реки, когда бредешь по песку вдоль полузасыпанного русла…
Это была великая и чистая страна, простиравшаяся от ковыльных придунайских степей до холодных волн Великого океана. За Уралом лежала необъятная нетронутая человеком Сибирь. Где теперь города стоят, где села да Деревни россыпями пестреют, почти сплошь тянулись леса, такие густые и дремучие, что зачастую сквозь чащу нельзя было ни пешком пройти, ни верхом проехать. Глубокие реки растекались до горизонта, унося свои воды на север к Ледовитому океану. В лесах, что народ прозвал тайгой, всякого зверья кишмя-кишело: и медведей, и волков, и кабанов, и соболей. Без ружья или рогатины нельзя было в путь собираться. Но не одного зверя боялся путник: бродили по дорогам лихие люди, государевы преступники. Разбойники. Кто отправлялся в дорогу, тому уж приходилось трусость за порогом оставлять. Далеко-далеко за многие тысячи верст от русской столицы на полуострове Камчатка — самом глухом медвежьем углу великой империи — стоял острог, частокол из столетних смоляных бревен: по углам сторожевые башни, барак для восьмидесяти узников, казарма для шестнадцати солдат стражи, да три избы — одна для коменданта, две для его ближайших помощников, молодых унтер-офицеров.
С трех сторон к острогу подступали отвесные скалы, с четвертой — дыбил валы неумолчный океан.
Стояла середина лета 1809 года.
В это время, единственный раз в году, к камчатскому берегу подходил корабль с материка. Это уже — праздник для всех: и для господ-офицеров, истомившихся без вестей из России, без аглицкого табака и французских вин, и для солдат, часть из которых должна возвращаться домой, отслужив свое, и даже для немногих узников, чья каторга подошла к концу.
Гостей ждали крабы, лососина, красная икра, свежее мясо медведя, лося, кабана, — дары щедрой камчатской земли, на которую ступил русский человек. Ступил, хоть недавно, но навсегда. Но не как временщик, рвач, жаждущий сиюминутной выгоды, а как рачительный хозяин, думающий не только о себе, но прежде — о внуках.
Посему никогда не оскудевал стол у тех, кто в силу своей воли, а чаще по высшему цареву повелению, пребывал на камчатской земле. И солдаты, сторожившие острог, вместе вставали на рассвете, вместе ели, вместе шли на работы, вместе с солнцем ложились спать. Было еще у сторожей и узников общее — судьба. Все они были несвободны. Хоть стой на вышке с ружьем, хоть корчуй пни, расчищай бурелом — все равно в одной клетке. И конвоирам, и каторжным снились по ночам одинаковые сны.
Но однажды приходил в острог день, который все расставлял по своим местам: день прибытия корабля из России. И сразу обозначался водораздел: узники оставались на своих нарах и в заданный час брели хлебать опостылевшую лососиную уху, а стража их, те солдаты, с которыми каторжные еще вчера были запанибрата, теперь в своей казарме глушили водку, привезенную с материка, а начальство — вчера тянувшее тоскливую служебную лямку — сегодня потчевалось французским шампанским.
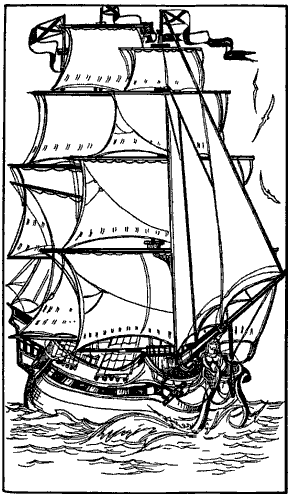
Раз в году появление барка под андреевским флагом встречалось салютом из единственной пушки острога…
23 июля. 18 час. 05 мин.
В светлой избе коменданта, просторной гостиной царило веселье.
Умели гульнуть русские офицеры!
Воспряли от казарменной скуки унтер-офицеры Архип Андронов и друг его Павел Неродных. На Камчатке им обоим оставалось служить еще три года. Как раз обозначился повод выпить, чтобы этот растреклятый черный отрезок быстро уходящей молодой жизни поскорее бы закончился.
Во главе стола восседал хозяин — Алексей Иванович Перов, комендант острога, с лицом загорелым и гладким, без единой морщины — вряд ли кто мог дать ему его почтенные пятьдесят лет.
Угадывалась однако у всех троих какая-то общая черта — стертость, приземленность что ли, усталость. Сказывалось все-таки долгое пребывание на далеком полуострове, отсутствие впечатлений и свежих идей; выглядели они, словом, как бы провинциалами. Да и как не быть провинциалом, если живешь на краю земли, откуда даже при срочном случае кричать не докричаться не только до Москвы или того же Санкт-Петербурга, но и до ближайшего губернатора, сидящего то ли в Иркутске, то ли в Тобольске, то ли в каком ином месте, которое от полуострова за тридевять земель.