— Вы, конечно, слышали о Вере Николаевне Фигнер?
Она повторила известные сведения о заговоре «Народной воли», о том, что Фигнер была выдана провокатором, приговорена к смертной казни, что казнь всемилостивейше заменили пожизненной каторгой, затем патетически воскликнула:
— Двадцать два года в Шлиссельбургской крепости! Двадцать два года!.. Исключительная женщина. Эталон душевной и физической красоты. Героиня эпохи. Она была моим идеалом в юности… К счастью, я имела романтическую юность. А вы? — спросила она. — Впрочем, вы — другая, мужская материя. Воины, бойцы… Но, видимо, я поспешила. Либо опоздала, не знаю. Живи я во времена самодержавия, пошла бы, не размышляя, за Фигнер. Наверное, пошла бы. При коммунизме, возможно, была бы художницей. Вы верите? Эти портреты, — она показала на стенку, — моя заурядная работа. А нынче… нынче перед вами не героиня и не художница…
— Кто же вы, позвольте вас спросить?
— Жертва века, — серьезно сказала она. И тут же, точно спохватившись, сумбурно изложила передо мной свой оригинальный взгляд на положение женщины.
— Эмансипации, в высоком смысле слова, у нас еще нет. Можно ли говорить об эмансипации, солидаризируйтесь со мной, если женщина все еще не уравнена в правах с мужчиной? То есть она равноправна политически, но не свободна от кухни, семьи и мелочных забот по квартире. Она может работать наравне с мужчиной, может, как и он, посвятить себя любимому делу, выбрать любую специальность. Но за какую-то провинность вместе с тем ей по-прежнему привешивают кухню, ораву детей, ленивого эгоистичного мужа. И в утешение говорят: ты у нас добрая, нежная, свободная, — будь умницей, милая, иго твое — благо… Меня немилосердно тяготит сознание такой несправедливости.
«Отчасти права», — мелькнуло у меня.
— Я мечтала… Хотела устроить свою жизнь по-новому, в полном согласии со своими представлениями. Совершенно свободно, понимаете? Что хочу, то и делаю. Хочу — еду на Селигер и пишу пейзажи, а хочу — выстилаю декоративные клумбы. Хочу — работаю в три смены, хочу — отдыхаю… Но однажды мне сказали: «Девочка, не пора ли замуж? Тебе не восемнадцать, а все двадцать три. Пора заводить семью». Ну зачем, скажите?
— А как же вы думали!
Она кокетливо зажмурилась.
— Вот видите, вы тоже… Хотелось бы так, а век требует иначе. Жестокая тупая аномалия. Извечный разлад между мечтой и действительностью.
— Вы где-нибудь работаете?
— Нет, не работаю. Живу на средства родителей — они в эвакуации. Дают иждивенческую карточку…
— Вам следует бунтовать, — посоветовал я.
— Против чего?
— Против войны, разумеется. И против себя — ошибочных взглядов на жизнь и странных своих желаний.
Она на секунду задумалась.
— Слова, пустые слова и никакого утешения. Никто не желает понять…
— Я, кажется, вас понял.
— Нет, не раскусили.
Она с обидой отвернулась.
Я пощадил ее. Мог бы сказать: «Хватит валять дурака, вы не ребенок. Такая отрешенность от жизни постыдна и предосудительна. Постыдно бессовестное иждивенчество». Будь передо мной мужчина или юноша, я так и сказал бы, вероятно. Ей предложил:
— Выкиньте из головы ваши мысли об извечном разладе человека с принципами времени. Нашему поколению понятны одни жертвы — жертвы войны и революции. Жертвуйте чем-нибудь войне. Уверяю вас: скучать больше не будете.
— Только и всего? — спросила она с вызовом и встала из-за стола. — Не слишком ли скудно? Марс ведь прожорлив, насколько нам известно.
— Начните с самой мизерной толики. Пойдите хотя бы в госпиталь.
— И обрету покой?
— За это не ручаюсь. Но человека вы в себе осмыслите.
— О, женщина, бедная женщина, ты еще не человек! А я-то полагала…
— Вы заблуждаетесь.
— Милая слабая женщина! Отправляйся же в пасть крокодилу — там и осмыслишь себя.
— Не надо утрировать.
— Но это же истина! Беспощадная истина средневековья и мужского варварства!
— Ну, знаете ли… Вы действительно не вовремя родились.
— Несчастная! Несчастная Леокадия!.. — она безвольно прислонилась к шкафу.
Расстались мы враждебно. Эту враждебность почувствовал даже кот, стремительно шарахнувшийся от меня к ногам растерявшейся хозяйки.
Двадцать семь минут, почти полчаса сидел я в изношенном кресле.
— Не жалеешь? — спросил меня Егоров.
Я промолчал.
— Стоило терять понапрасну время! От нее и родители толку не добились, на что уж крутые старики.
— Где она нахваталась этого?
— Беззаботности? Это ведь нравственная малограмотность, Дубравин. Школу в свое время бросила, художественный техникум тоже. В комсомол ее не приняли. Работать сама не пожелала. Вырастают же такие одуванчики!.. Собирается к родителям. К безнадежно отставшим от жизни родителям. — С усмешкой прибавил: — Ее цитирую.
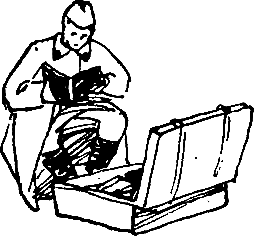
Русский язык
Еще в первую осень войны я подобрал в руинах разрушенного дома на улице Стачек одну обгоревшую по краям небольшую книгу. Я взял ее из сострадания: то была первая увиденная мною книга, потерявшая в войну своего хозяина. В книге были собраны очерки по истории русского литературного языка девятнадцатого века. Зачем она мне? Я не собирался быть ни лингвистом, ни литературоведом. Все же я не выбросил ее, сунул в походный чемодан вместе с запасной парой белья и бритвенным прибором и таскал ее всюду, куда только доводилось мне перебираться.
Изредка, когда случалось прихворнуть — делать было нечего, тянуло о чем-нибудь думать — я, чтобы уйти от тоски, доставал эту книгу и принимался неторопливо читать. Читал, повторяю, не спеша, по страничке за прием, в содержание ученых параграфов не вникал, зато подолгу задерживался на отдельных фразах из сочинений поэтов и прозаиков. Этими фразами был пересыпан весь текст научного исследования, они комментировали мысли ученых. Но мне абсолютно было неважно, что они там комментировали, — меня занимали сами эти фразы. Они для меня и пахли и звучали, отблескивали светом и искрились, двигались и трепетали, пели, смеялись, гневались, шутили. В них я обнаружил нечто такое, без чего, полагаю, посчитал бы себя обделенным. И, может быть, недостаточно счастливым.
Там была фраза из Гоголя:
«Манилов поддерживал Чичикова и почти приподнимал его рукою, присовокупляя с приятною улыбкою, что он не допустит никак Павла Ивановича зашибить свои ножки».
Фраза Крылова:
«Навозну кучу разрывая, Петух нашел жемчужное зерно и говорит: — Куда оно? Какая вещь пустая!»
Целый отрывок из Тургенева:
«К вечеру облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось, так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда».
Я читал эти фразы и думал: какой непостижимой силой обладает слово, обычное русское слово, когда вместе с другими такими же простыми словами оно создает картину, будоражит чувства, вызывает рой ассоциаций. Мне чудилось, что я отрываюсь от действительности и начинаю витать в представлениях. Отчетливо виделся Манилов, любезно оберегающий на ухабистом дворе изнеженные ноги заезжего гостя; видел надутого спесью петуха с багровым расклеванным гребнем; видел спокойное наступление летнего вечера и первую теплую звезду на бледном небосклоне…
Я пробовал переложить писательские фразы своими словами — получалось длинно и скучно, а главное — они тускнели, теряли выразительность, делались печально-сухими, холодными и жесткими; образов мои слова не создавали. В чем волшебство художественной речи? По каким законам она организуется? Возможно, тайна всего лишь в сцеплении слов, в определенной последовательности глаголов, существительных и прилагательных? Но у Гоголя не та последовательность, что у Тургенева; у Пушкина — иная, чем у Крылова. А может быть, Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Тургенев просто-напросто раскрашивали мысли? Надо сказать, например, луна — они добавляли: лысая, бледная, слепая… Но это не объясняло мне, почему у Гоголя получается смешно, а у Тургенева сердечно. Не объясняло и многого другого — того, скажем, почему писатель в одном случае вызывает радость, а в другом — саркастический смех, светлую печаль, или гнев, или добрую улыбку.