— А хочу ли я быть невиновным, друг? Вот вопрос! Я должен быть тебе благодарен?
Неккер ничего не ответил; но сердце его забилось сильнее.
— Я должен быть тебе благодарен? — переспросил король со странным упорством. — Сумею я быть благодарным, как ты думаешь?
— Да, — тихо ответил Оливер. Людовик посмотрел на него глазами, в которых зияла бездна.
— Ты лучше знаешь меня, чем я тебя, — прошептал он. — Брат мой, я воистину не знал, на что ты способен ради меня. А я могу пойти так далеко, как ты думаешь? До конца ли ты знаешь меня?
— Нет, — сдавленно произнес Оливер, — и было бы лучше, если бы вы не пытались идти…
Людовик встал и подошел к нему.
— Разве до тебя уж так далеко, — улыбнулся он, — и ты думаешь, я не дойду? Ты хочешь быть один, Оливер?
Неккер опустил голову и не решался ответить. Людовик ласково и внезапно пожелал спокойной ночи, отодвинул потайную дверцу в панели и поднялся наверх к больной, которая со времени рождения дофина постоянно находилась в башне.
В три часа ночи Оливера разбудило чье-то прикосновение. Перед ним стоял король. Свеча дрожала в его руке, он трясся всем телом, словно в ознобе. Но на лбу блестели капли пота. Оливер снова закрыл глаза, не зная, — явь это или все еще дурной сон?
— Идем, — произнес Людовик чужим голосом. Неккер вскочил и протер глаза.
В неверном, колеблющемся свете лицо короля было неузнаваемо: серое, столетнее лицо — огромные орбиты без взора, без блеска зрачков — и такая мука в складках лица, и такие трясущиеся щеки, что с губ Оливера не сорвалось даже вопроса.
— Скорее, друг, — торопил Людовик.
Неккер набросил на себя меховой плащ и понесся по горницам и переходам, через раскрытую дверцу в панели, вверх по витой лестнице, в покой над башней. Ложе было смято. Анна лежала на шкурах без сознания, вся посиневшая. Оливер со стоном сжал кулаки. Король стоял в дверях, постаревший, неузнаваемый, с истерзанным лицом и потухшими глазами.
— Да, — с усилием произнес он и смиренно поднял руки. — Можешь ты меня убить? Нет, милый брат, ты не можешь…
Оливер посмотрел на него темным, жалобным взором и не отвечал. Он наклонился к больной, приник ухом к ее груди, стал слушать. Дыхание было тяжелое и прерывистое, сердце колотилось так, что сотрясалась вся грудная клетка. Вены на шее быстро-быстро пульсировали. Неккер стал успокаивать ее магнетическими пассами вдоль лба, висков и сонной артерии. Он осторожно приподнял ей веки, приник лицом к самому ее лицу, чтобы взгляд ее сразу мог встретиться с его взглядом. Сердце ее стало биться ровнее, Оливер отодвинулся и встал. Анна проснулась. Она с трудом повернула голову направо, потом налево и увидела Неккера.
— Оливер, — шепнула она еле слышно и попыталась улыбнуться. Она повернула голову в сторону короля и окинула его горьким взглядом, как бы жалуясь на что-то.
— Оливер… — назвала она и его.
И слабым дрожащим пальцем показала ему на Неккера, словно говорила: «Бери пример». Людовик закусил губы и послушно, молча кивнул головой. Оливер закрыл лицо рукою, чтобы заглушить стон.
Анна широко раскрыла глаза, словно увидела что-то неожиданное и радостное, и с трудом подняла руки, указывая на зеркало в потолке.
— Как хорошо, Оливер, — блаженно прошептала она, — спасибо… как хорошо мне теперь, Оливер…
Глаза, все лицо, голос ее улыбались. Она тихо уснула, и улыбка разлилась по ее коже. Неккер поднял голову, посмотрел на нее, потом на короля. Людовик вынес этот взгляд.
— Вот благодарность, в которой уже нет ничего земного, государь, — медленно проговорил Оливер; — но быть может я заслужил ее.
Людовик робко приблизился.
— Разве ты не мог оставаться в одиночестве, брат? — мягко спросил он. — И разве без тебя я знаю, что есть добро? И что пользы, если я буду знать, что ты лучший из нас двоих, а тебя около меня не будет? Путь к тебе был не так уж далек, Оливер. И потом, друг… ты ведь звал меня, жаждал меня, а я — меня удерживала любовь к Анне!
Потрясенный Неккер взял руки короля в свои.
— Вот он — рубеж. Случилось то, что должно было случиться. Любовь ли то была, ненависть ли, кара или жертва — этого незачем теперь разбирать, это было, государь, мы это выстрадали, и этого больше нет. Отныне никого у нас не будет, кроме нас самих, и тогда…
— Оливер! Оливер! — еле слышно, но с бесконечной радостью лепетала спящая. — Что мне за дело до короля…
Неккер и Людовик вздрогнули.
— Кто для нее король? — спросил Людовик с болью в голосе. — Я? По-прежнему я?
Оливер посмотрел на него с состраданием и промолчал, потом приложил ухо к груди Анны. Сердце еле билось.
— Конец ее легок и прекрасен, — прошептал он, глядя на короля. — Почему вы боитесь смерти, государь?
Людовик вскочил и вытянул руки, как бы защищаясь;
— Что за дело королю до этой смерти! — вскричал он. — И зачем ты так говоришь? Почему ты не помогаешь мне бороться с ней, почему ты не спасешь меня от нее?
Оливер выпустил руку Анны из своей.
— Я помогу вам, государь; но кого можно спасти от смерти?
— Короля!
Лицо Анны озарилось восторгом, словно тихим сиянием месяца. Ее маленькая, совсем детская ручка снова указала куда-то ввысь. Губы зашевелились, но слов не было слышно. Веки на мгновение поднялись; показались блаженные, сияющие далеким светом глаза; и глаза эти уже не видели ничего земного. Зато из слегка раскрытых уст вырвался серебристый звук, слабый, высокий, совсем короткий, подобный звону еле поколебленной струны.
— Что это? — тихо спросил Людовик и прислушался.
— Радость смерти, — сказал Оливер с чудесной улыбкой.
К утру сердце Анны перестало биться.
КНИГА ТРЕТЬЯ
Глава первая
Звери
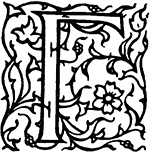
Нежелание подпускать к себе смерть довело человеконенавистничество и подозрительность Людовика до того, что он уже не хотел видеть из своего дворца жилые дома горожан. Он переехал с Оливером, куманьками, шотландской гвардией и немногими придворными в уединенную и совершенно недоступную крепость Плесси близ Тура. Это убежище он укреплял с яростью маньяка, обезопасил его страшными оборонительными приспособлениями и строжайшими запретами, нарушение которых каралось смертью; впрочем, люди неосторожные или не знающие дороги и без того становились жертвой бесчисленных волчьих ям, капканов и самострелов. Отсюда суровой рукой и с большой зоркостью управлял он вместе с Оливером своим королевством, мало тревожась стонами угнетенного народа и не удивляясь его героическому послушанию. Он управлял им умно и уверенно с таким знанием всяких политических колебаний, что страна, охваченная одновременно и удивлением и ужасом, считала ум своего невидимого короля даром антихриста и втихомолку давала Людовику прозвище, принадлежавшее его таинственному советнику и наушнику. Казалось, что оба эти демона распоряжались на своей отдаленной от людей скале судьбами всей Европы. События больше не удивляли их; подобно алхимикам, уверенно ожидали они результатов. Вот созрел плод работы долгих лет: Карл Бургундский, на высоте своей власти и удачи, попав, наконец, в давно приготовленную ему ловушку, был смертельно ранен могучими ударами королевских союзников, а потом по сигналу Людовика атакован целой сворой мелких собачонок. Когда он захотел стряхнуть с себя герцога Лотарингского, крепко вцепившегося в Нанси, тотчас же обнаружилась измена Кампобассо, который напал на него с многочисленной осадной армией; дикая человеческая орда ринулась на него и раздавила, даже и не распознав его в общей свалке, и бог войны — Карл Бургундский — превратился в жалкий, голый, растерзанный труп среди тысячи других таких же трупов.