— Не знаю… не знаю…
Он долго молчал и не шевелился. Руки его, охватившие руку Анны, похолодели; она вновь повернула к нему голову.
Он зарылся лицом в простыню; видны были только его седые волосы; она легонько провела по ним пальцем. Теперь она была совсем спокойна.
— Я хотела бы помочь вам, государь.
Он взглянул на нее, бледный, постаревший.
— Да, — сказал он растерянно. Она провела рукой по лбу его и по глазам. Он улыбался. Она сказала совсем тихо, ласкающим серебристым голосом:
— Положите мою руку себе на глаза, вот так, и думайте… и вспоминайте обо мне в вашей башне…
Он вздрогнул; она быстро нагнулась к нему и дотронулась губами до его лица. Она прошептала:
— Быть может, я там буду сегодня, и, быть может, я не хочу, чтобы горел свет, и, быть может, нужна только вера в мое присутствие… Иди теперь, иди, и верь в спасительную ложь! Ведь это нужно… Стоит только захотеть, друг, и тебе почудится, что это я там… иди.
Она отодвинулась и улыбнулась. Он глядел на нее широко раскрытыми глазами как на чудо.
— Анна, — сказал он тихо и совсем медленно, — Анна, жена моя, и во лжи есть бог! Я попробую, я возьму тебя с собой в моей душе. И помилуй, господи, нас, грешных.
Он поцеловал ее в лоб и вышел. Она ждала, покуда не замолк звук его шагов. Когда воцарилась полная тишина, она поднялась, поборов слабость и головокружение, встала с постели и подошла, шатаясь к маленькому шкапчику.
— Он его не запер, — усмехнулась она и вынула склянку. — Он ее не унес. Он знает, что это для меня… самое лучшее без него…
Она всыпала щепотку желтоватого порошка в бокал вина и выпила:
— Какое ему дело до Анны…
Глава четвертая
Головы
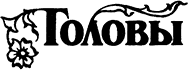
Королева прожила во дворце неделю. Тихая, покорная, с всегда чуть-чуть приподнятыми, словно от страха, плечами, входила она в темное душное помещение башни и потом покидала его с ужасом в глазах, будто после дурного сна, с непрекращающимся даже днем оскорбительным звоном чужого имени в ушах. Кроме своих дам, она видела лишь этого удивительного заступника и руководителя, которого величали, как ей шепнули, Дьяволом, но который ей казался очень мягким и добрым, с глазами полными нежности и утешения. Однажды он сообщил ей, что король уехал в Тур и сожалеет, что не может с ней проститься. После этого он проводил ее обратно в ее тихую резиденцию.
Когда Оливер опять очутился с королем в его кабинете, никто из них ни одним словом не упомянул о случившемся. К делам управления, не терпящим отлагательства, и к важным политическим вопросам король приступил в таком светлом, энергичном и бодром настроении, как никогда прежде. Однако, когда по ночам король с Оливером выходили из кабинета, — обычно вместе, потому что в башне над их головами теперь никого уже не было, — и Неккер запирал дверь, Людовик неизменно произносил одни и те же слова:
— Анна больше не поправится.
Эти слова он произносил спокойно и медленно, с каким-то смирением и без тени упрека. Оливер ничего не отвечал. Равным образом не пытался он узнать, откуда черпал король силу для такой покорности после испытанной им бури страстей и надолго ли хватит его видимого спокойствия. О жене своей Оливер упоминал редко, как и прежде, когда, представляясь глухим и слепым, отрицал ее близость в башне, хотя и знал, что она ожидает Людовика наверху. Однако он приказал Даниелю Барту ежедневно доносить королю о состоянии ее здоровья.
Анна не поправлялась. После приступов бреда у нее обнаружились симптомы тяжелой перемежающейся лихорадки. Тело ее в правильные промежутки времени сотрясалось от озноба, после которого наступала полная апатия.
Противоядия, которые Оливер приготовил для нее, не оказывали почти никакого действия. Впрочем, мейстер подозревал, что она их как следует и не принимала. Однако он не высказывал своих подозрений и, соблюдая данное слово, делал вид, будто не сомневается в естественных причинах ее болезни. Вскоре он установил страдания в области сердца; он ожидал этого, так как знал медленную и непреодолимую силу флорентийского яда, парализовать которую теперь было уже нельзя. В то же время он знал лучше ее, как долго будет длиться сопротивление организма. Даниель Барт, ухаживавший за Анной, самоотверженно и умело боролся против приступов болей и бессонницы и заботился о том, чтобы больная принимала то таинственное снадобье, которое мейстер приготовлял из макового молока и гентских кореньев. Постепенно добился он того, что боли совсем исчезли; осталось общее недомогание, и лишь изредка повторялись прежние приступы. Барт, ошибочно принимая это состояние за начало выздоровления, стал в своих ежедневных докладах королю подавать так много надежды, восхваляя в то же время искусство мейстера, что Людовик однажды вечером переменил свою обычную фразу на вопрос:
— Ну как, Оливер, поправляется Анна?
Неккер, идя за ним, ответил не сразу. Ему вдруг показалось, что под жалко и немощно сгорбленной спиной короля таится такая же внутренняя боль, как и в тот злополучный вечер, когда он подал ему одному его столовый прибор. Но, как будто раздраженный внешним спокойствием короля, он еще отказывал ему в сострадании и ответил довольно странно:
— Если бы вы еще продолжали страдать, государь, то я сказал бы вам: может быть.
Людовик быстро обернулся и с удивлением взглянул на Оливера.
— А ты этого не знаешь? Ты не знаешь того, что я страдаю, Оливер?
Неккер колебался еще секунду, разглядывая лицо короля, показавшееся при свете факела бледным, беспокойным и грустным. Затем он сказал:
— Может быть, она и поправится, государь.
Гроссмейстер энергично и успешно действовал на юге. Его прекрасно вооруженное и дисциплинированное войско с легкостью и без особых потерь наносило поражение едва сформировавшимся отрядам Арманьяка и Немура. Так как оба эти сеньора первоначально имели своей задачей лишь замкнуть кольцо новой лиги, окружавшей Людовика на юге, то оба они одновременно были изолированы, благодаря политическим событиям, и приведены в смятение неожиданным наступлением короля. Только пожалованье их союзника Карла Французского соседней областью Гиень в качестве лена дало им понять, что королевская армия уже разрезает их клином. В несколько недель гроссмейстер захватил их земли, маневрируя на крайнем юге против Арманьяка, а в Кэрси и Оверни против Немура. Граф бросился в укрепленный Гасконский замок, Немур — в скалистый Карлат, близ Ориллака. Оба предложили начать переговоры; гроссмейстер просил у короля инструкций.
Людовик желал только головы Немура, так как Арманьяк не принадлежал к числу тех, кто получил амнистию, за участие в первой лиге, к тому же, благодаря своему личному богатству, положению своих обширных земель и союзу с Хуаном Арагонским, он являлся самостоятельным государем, но Тристан требовал и для него судебного приговора, чтобы, избавившись от него, присоединить его земли к короне.
— Уж не воображаешь ли ты, что я их ему оставлю, а его признаю невиновным? — спросил король насмешливо. — Но я не хочу процессов, Тристан, если я их и допускаю, то пусть их будет поменьше, чтобы они производили большее впечатление. С Немуром, а позднее с Сен-Полем, как с государственными изменниками, ты можешь поднять столько шума, сколько тебе вздумается, ну, а граф — это честный враг.
Оливер бросил мимоходом:
— Мне кажется, что Арманьяку пристала смерть героя.
Людовик с удивлением взглянул на него и улыбнулся.
— Совесть идет навстречу? — спросил он тихо.
— Вы этого заслужили, государь, — прошептал Оливер ему на ухо.
— Готовность вести переговоры исключает враждебные действия, — возразил Жан де Бон. — Быть может, Арманьяк пойдет на сдачу.
Развеселившийся Людовик кивнул ему:
— Твоей нежной душе, Жан, не хватает только пострига, а твоей толстой голове тонзуры, — из тебя вышел бы хороший францисканец. Но что можно сделать против превратностей войны? Видишь ли, мой друг, если Арманьяк хочет вступить в переговоры, то волей-неволей он должен отправиться в лагерь моего гроссмейстера. И тогда никакая охранная грамота не сможет предохранить его от шальной пули или иного несчастного случая. Если же он пойдет на сдачу, то крепость будет занята моими войсками, и тогда легко может с ним приключиться какая-нибудь другая беда. И тогда гроссмейстер подобающим образом засвидетельствует от моего имени чрезвычайное сожаление и глубокую скорбь.