многих она еще притянет из тех, кто в город подался. А без тяги к земле и в деревне нечего делать. Аксенова взять,
бывшего бригадира. Не лежала душа к земле — пропал человек. Боюсь, что и Толька следом пойдет... Город в
молодости, конечно, манит. Как же! Культура, асфальт, коммунальные услуги. Издали все розово!.. Да что я тебе
говорю об этом? Ты уже понюхал, чем хлеб пахнет, и ты, брат, этого ни в жизнь не забудешь! Где бы ни был,
попомни меня, — к земле придешь.
Всякий раз, когда сухая безоблачная погода стояла долго, Гусю казалось, что так будет без конца, хотя он
хорошо понимал, что природа свое возьмет и на смену безоблачным дням непременно придет ненастье. Как часто
случается, и на этот раз погода переменилась ночью. Вечером было тепло и тихо, а ночью вдруг поднялся ветер, и к
утру все небо затянуло серыми лохмотьями туч.
На рассвете хлынул дождь.
Ржаное поле будто взбесилось: ветер трепал, лохматил высокие стебли, заламывал тяжелые колосья, а сверху
безжалостно хлестали косые струи.
— Вот мы и отработали, — вздохнул Прокатов. Он стоял, укрывшись от ветра и дождя за
соломокопнителем, угрюмый, промокший до нитки, и жадно курил папиросу, зажатую в кулак. На его глазах гибла
переспелая рожь, гибла потому, что кто-то наспех, кое-как отремонтировал комбайн. Ведь если бы не пришлось
Coгрину «доделывать» машину на полосе, рожь эта была бы давно убрана.
— Запоминай, Василий, что творит погода с нашим хлебушком, — мрачно говорил Прокатов. — Ладно хоть,
мы успели сорок гектаров смахнуть, а полсотни, считай, пропало...
Гусь смотрел, как дождь и ветер метелят рожь, и та спешка, то неимоверное напряжение, которые и удивляли
и изматывали его на протяжении трех с лишним недель жатвы, разом получили свое оправдание.
Прокатов докурил папиросу, придавил сапогом окурок и вдруг спросил:
— Танька-то у тебя, когда уезжает?
— Н-не знаю... Наверно, двадцать восьмого.
— А сегодня двадцать пятое?
— Да.
— Видишь, как дело-то обернулось... Пойдем-ка на фатеру да обсушимся. Той порой дождь, может, перейдет,
и топай, брат, домой!
— А ты?
— Что — я? Я подожду. Глядишь, не всю рожь выхлещет, может, кое-что и удержится. Теперь начнется такая
морока — избави бог! Ни намолота, ни заработка. Этой мороки ты еще отведаешь...
Гусь колебался.
— А если завтра погода наладится?
Прокатов невесело улыбнулся.
— Нет уж. Одним днем вряд ли обойдется. Я боюсь, что поле раскиснет — у нас там песок, а здесь подзол с
глиной. Тогда и комбайн не пойдет... В общем, пошли - обсушимся, хватит мокнуть. Был бы мотоцикл, и я бы с
тобой скатал...
— Если домой идти, так чего и сушиться? Все равно намокну, — сказал Гусь, понимая, что Прокатов твердо
решил остаться один.
— Смотри сам, не боишься растаять — топай.
Тут, возле комбайна, они и распрощались. Прокатов, пожимая огрубевшую от работы руку Гуся, сказал:
— В общем — спасибо тебе! Не обижайся, если иногда туговато приходилось: дело такое... А в будущем
году, может, снова вместе пошуруем!..
Четырнадцать километров под проливным дождем Гусь отмахал за три часа. Первым делом он забежал к
Прокатовым, и чуть не до смерти напугал внезапным появлением жену Ивана, которая подумала, что с мужем что-
то стряслось. Но узнав, в чем дело, Настасья успокоилась и заставила Гуся выпить с дороги горячего пареного
молока.
Не меньше всполошилась неожиданным приходом сына и Дарья.
— Господи, да откуда ты этакой взялся? — в тревоге воскликнула она. — Уж не убег ли?
— Скажешь тоже!..— обиделся Гусь. — Погода-то видишь какая! Жать-то нельзя. Вот Иван и отправил меня
домой...
— Дак чего стоишь-то? Гли-ко, с одежи-то целые ручьевины текут!
А Гусь смотрел на банки, миски и старый цинковый таз, расставленные на полу, и видел, как часто шлепались
в них с потолка тяжелые капли.
— Прохудилось крыша-то, беда как прохудилась! — вздохнула Дарья, перехватив взгляд сына. — Да и
дождь-то больно мокрой!..
Пока Гусь раздевался, она нашла сухую одежду, достала с печи теплые валенки, налила в умывальник горячей
воды, поставила самовар.
— Боле уж работать, поди, не будешь?
— Нет. Погода бы постояла, так можно бы...
— Ну и слава богу! И так уж наработался... Пять ден и до школы осталося... А вчерась ведь аванец давали.
Знаешь, сколько тебе насчитали?
— Сколько?
— И сказывать боязно. Семьдесят два рубля!.. Подумать только! — Дарья покачала головой. — Я и получать-
то их не хотела: ежели ошибка какая, дак ведь потом обратно стребуют. А кассирша-то объяснила: Ивану-то
Прокатову, говорит, аванец сто сорок четыре рубля, а Ваське твоему, говорит, половина его заработка идет... Да уж
тут я поверила, получила... Кабы не дождь, в Камчугу ладила идти. Сапоги-то купить да ботинки.
— Сам схожу...
Гусь умылся, кое-как расчесал спутанные и отросшие за лето волосы и блаженно растянулся на лавке. Давно
на душе у него не было такого покоя. И пусть усталость разливается по всему телу — теперь спешить нокуда.
— Чего лег-то? Поешь, да и лягешь потом. Али заболел?
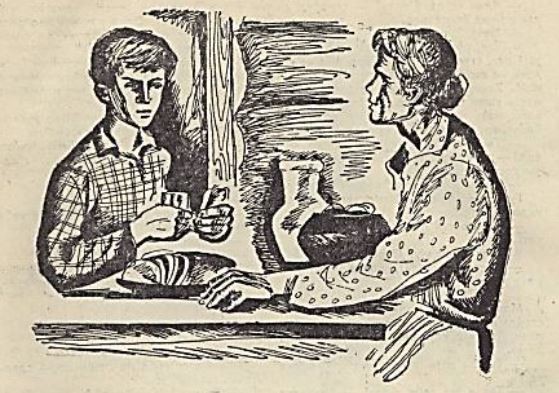
— Нет, нет, я так чуть полежу, на лавке... Не слышала, фотокарточку-то не напечатали в газете?
— Не было. Спрашивала я, как же! Долго чего-то не печатают.
— А Витька и Сережка дома?
— Дома. Вчерась Толька-то чуть Сережку не укокошил.
— Как? - встрепенулся Гусь.
— Евонный дядька, который в отпуске-то был, вчерась уезжал. Пьянущий! И Тольку напоил. Тот спьяну-то
на Сережку взъелся. Подумай-ко ты, ведь с ножиком на парня кинулся!
— Hy!
— Бабы розняли. Да Танька еще тут оказалася, дак обошлось, отбили пария...
Мать-то Толькина ревет, от рук, говорит, совсем отбился, ничего не слушается, деньги из дому таскать начал...
— Так Сережке-то ничего, не сильно попало?
— He, не! Нисколь не попало, отбили... Ты подними-ко самовар-то, дак и я с тобой чаю попью...
Кажется, еще никогда так богато не был накрыт стол в доме Гусевых. Кроме обычных и повседневных
картошки, хлеба и молока появились батон и сливочное масло, а к чаю не только сахар, но и дешевенькие конфеты-
кругляшки и даже белые сухари. Все это Дарья пододвигала сыну, приговаривая:
— Булки-то, булки поешь! А чай-то с конфетками — слаще! К обеду-то щей наварю. Мяса полтора
килограмма купила, да, вишь, не знала, что сегодня придешь. Щей-то похлебал бы с устатку...
Газета с долгожданной фотографией пришла накануне отъезда Таньки в город. В тот день Гусь ходил в
Камчугу, в магазин ОРСа, и вернулся домой с покупками — сапогами -броднями и дешевенькими полуботинками
— для школы. Дома его ждали Витька и Сережка. Дарья стирала в кухне белье. На столе лежала развернутая
газета.
— Почитай-ка, как вас с Прокатовым расписали! — воскликнул Сережка. — И даже портрет напечатан.
Гусь тотчас схватил газету. Он ожидал, что портрет напечатан большой, с открытку или хоть в половину ее. На
самом же деле на фотографии был комбайн, кусок поля и справа, в верхнем уголочке, где должно быть небо, — два
малюсеньких лица. Иван Прокатов похож сам на себя, а второе лицо — чернью брови, прилизанные набок волосы,
острый подбородок — неведомо чье.
«Ну уж и портрет! — разочарованно подумал Гусь. —И не похож совсем...»
Под заголовком «Ни минуты простоя» стояло непонятное слово «репортаж».
— А ты хоть ботинки-то купил? — услышал Гусь голос матери.
— Купил, купил! — и начал читать.
«Поле пшеницы, как море. Колышутся на ветру тяжелые колосья...» — так начинался этот репортаж.
Гусь читал, пропуская слова и целые строчки: пока все о колхозе да о Прокатове, а ему не терпелось прочитать