— Я убил мага? — в тонком голосе Ринкеля звучали одновременно страх, удивление и гордость.
— Похоже на то, клянусь посохом Прозревшего Петера.
— И я готов отпустить тебе этот грех, сын мой, — твердо сказал брат Дитрих. — Книга Гнева гласит: «Всякий, поднявший меч свой для защиты братьев, причислен будет к тем, кто рубит траву сорную».
— Интересно, чего он хотел? — спросил Йохан, опускаясь на корточки рядом с магом.
Рудольф Белый был мертв, и невидящие глаза его смотрели в ясное, голубое небо.
— Трудно постигнуть, чего желают чародеи, пути их сокрыты от тех, кто лишен колдовского дара, — старший из монахов пожал плечами. — Знания, власти, чего-то еще… Но незачем медлить, мы должны за сегодняшний день добраться до Оракула, иначе все будет напрасным.
Йохан кивнул и поднялся, отогнал мысль о том, что можно бы порыться в вещах мага. Вслед за спутниками вступил в коридор с белыми стенами и сине-зеленым полом, и восприятие его странным образом исказилось — все вокруг сделалось размытым, будто он смотрел через слой воды; звуки казались приглушенными, запахи вовсе исчезли, а мысли в голове ворочались еле-еле.
Сколько они шли и куда, Йохан не смог бы сказать.
Он понимал, что они спускаются, идут в глубь скалы, но темнее вокруг почему-то не становится. Одну за другой открывал двери, обычные и странные, из досок и из цветущих роз, невидимые, как воздух, и состоящие будто из дрожащего фиолетового света.
В длинном сводчатом коридоре их атаковали странные ящероподобные существа, явившиеся прямо из стен. В ход пошли мечи, нападение было отбито, но брат Отто остался лежать на полу с разорванным горлом, и брат Дитрих, опустившись на корточки, опустил собрату по ордену веки.
Прошли через лабиринт, в недрах которого сгинул Швеппс.
Куда он пропал, что с ним случилось, Йохан вспомнить не мог, как ни напрягал память — та сохранила лишь надвигающийся из тьмы неприятный костяной скрежет и отчаянный, полный боли крик.
Затем они поднялись по длинной лестнице, ступени которой были черны как ночь, и брат Дитрих возвестил:
— Мы дошли.
— Да? — Йохан тряхнул головой и обнаружил, что перед ними ворота, почти такие же, как те, которые он открыл в самом начале, только выточенные из темно-синего камня. — Вдвоем?
Монах помолчал, а затем проговорил с улыбкой: — Мне очень не хочется этого делать, но задание капитула — святое, и Прозревший Франц велит не…
Йохан смотрел, как в появившейся из-под серой рясы руке блеснул стилет, как лезвие приближается к его горлу. Сил на то, чтобы сопротивляться, не было, желания — тоже, осталась лишь тупая покорность судьбе, неведомо зачем притащившей его сюда, в горы южного Геверна.
Он не особо удивился, когда брат Дитрих неожиданно скорчился и упал.
«Здесь только я решаю, кому жить, а кому умереть, — прозвучавший в голове голос был мягким и в то же время мощным, будто раскат грома. — Ты же, достигший моего порога, заходи».
Синие ворота распахнулись, и Йохан увидел Симферийский Оракул.
На что тот похож, он не смог бы сказать при всем желании — на прекрасную женщину, на статую из храма, на облако разноцветного огня, на могучее, статное дерево, на увенчанную пеной волну…
На все это вместе и ни на что в отдельности.
Не чувствуя под собой ног, Йохан сделал дюжину шагов.
«Спрашивай», — произнес тот же голос внутри его головы.
В ответ Йохан отчаянно замотал головой — даже если бы он явился сюда за ответами на вопросы, сейчас вряд ли бы смог сформулировать хотя бы один из них, слишком сильный хаос царил в голове.
«Тогда проси», — велел Оракул.
Йохан собрался с мыслями, прокашлялся и заговорил, медленно и четко произнося каждое слово:
— Я хочу иметь возможность проникать в любую сокровищницу так, чтобы стража меня не замечала, и еще я хочу, чтобы мои потомки были многочисленны, живучи и род мой не прервался до скончания времен.
Он понимал, что хитрит, загадывает два желания вместо одного, но с другой стороны — если это желание не является для Оракула правильным, то оно все равно не будет исполнено.
И тогда жить Йохану по прозвищу Кнут осталось несколько мгновений.
Наступила тишина, такая звонкая и мучительная, что у него возникло желание заорать, подпрыгнуть, сделать хоть что-нибудь, лишь бы нарушить это ужасное, рвущее уши безмолвие…
«Будь по-твоему», — молвил Оракул.
Сверкнуло, что-то с шорохом упало на пол, и ворота из синего камня начали закрываться. Но прежде чем они захлопнулись, в крохотную щель проскочил шустрый рыжий таракан.
Оказавшись на верхней ступени лестницы, он поводил длинными усами и двинулся вниз…
МАРИНА И СЕРГЕЙ ДЯЧЕНКО
ВКУС СЛОВА
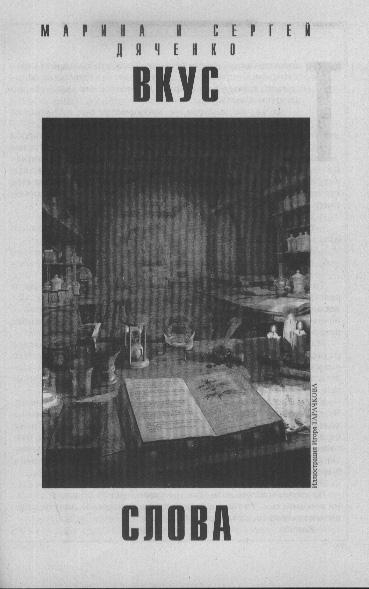
— Теперь покажите, чему научились. Того, кто лучше всех справится, буду учить дальше, а остальным — до свидания. Идите сюда, перед всеми открыто позорьтесь или хвалитесь, по заслугам и честь!
— Да уж, по заслугам, — пробормотал под нос унылый Хвощ. — Эх, чувствую, мать мне устроит учение…
Шмель молча поднялся на широкий помост, с которого обычно объявляли новости, а теперь здесь был выставлен стол — широкая доска на двух бочках, с въевшимися пятнами от пивных и винных донышек… Вереницей подтянулись и встали у стола шестеро ребят от двенадцати до шестнадцати, проучившиеся кто год, кто полтора. Шмель занимался меньше всех — восемь месяцев.
— Готовы? — учитель возвысил голос.
— Мастер, я язык обжег, — тихо сказал Плюшка. — И у меня нос сопливый. Нюх потерялся.
— Уходи. Зачем ты мне сдался с сопливым носом.
— Мастер, я просто язык обжег…
— Ну-ка, тихо все!
Толпа, окружавшая помост, притихла. Здесь были друзья и родственники учеников, братья и сестры, соседи и приятели. Отдельно, на вынесенном из трактира кресле, восседал Глаза-и-Уши — личный княжеский советник. Он был немолод и сухощав, прозвище приросло к нему намертво, и настоящего имени никто не помнил.
Матери и отца Шмеля не было, конечно, у помоста. Там, далеко на перевале, они не могут оставить трактир; Шмель поежился. Отец отпустил его учиться с единственным условием: стать мастером, сделаться уважаемым человеком в Макухе. Ремесло языковеда отец не ценил, но положение в обществе — очень.
Все эти восемь месяцев Шмель не думал ни о чем, кроме учебы. Не гулял ни на одном поселковом празднике. Ни разу не просился домой, проведать родных. Тина, дочь хозяина таверны, где Шмелю позволили жить, говорила: этот парень постигает языкознание, будто жених невесту в первую брачную ночь. Шмель не мог судить насчет невесты: он еще не целовался ни с кем. Он учился, как плыл в быстрой воде, боясь остановиться, и вот доплыл до испытания…
Лишь бы не подвел язык.
На столе стояли рядком простые керамические кувшины с узкими горлышками. Учитель поманил пальцем высокого Лопуха, старшего из учеников, уже взрослого:
— Какой?
Выбирать было особенно не из чего — кувшины казались одинаковыми, разве что чистили их в разное время и с разным усердием. Лопух указал на тот, что был с надтреснутой ручкой. Мастер плеснул в стакан густой жидкости тыквенного цвета:
— Пробуй.
Лопух глубоко вздохнул. Принял стакан дрогнувшей рукой, поднес к губам, понюхал, раздувая ноздри. Смочил рот; вся площадь притихла.
Лопух глотнул смелее. Раздувая щеки, покатал жидкость во рту. На лице его было написано такое усилие, будто парень тянул из болота увязшего по уши осла.
— Ну-ка? — мастер решил, что времени прошло достаточно.
— Движется, — обреченно сказал Лопух.
— Кто движется?
— Можно еще попробовать?
Мастер подлил ему жидкости из того же сосуда, парень набрал полный рот и так застыл. Девчонка, считавшая себя Лопуховой невестой, пробилась к самому помосту и глядела снизу вверх умоляющими глазами.