Глава 12. Среди евреев
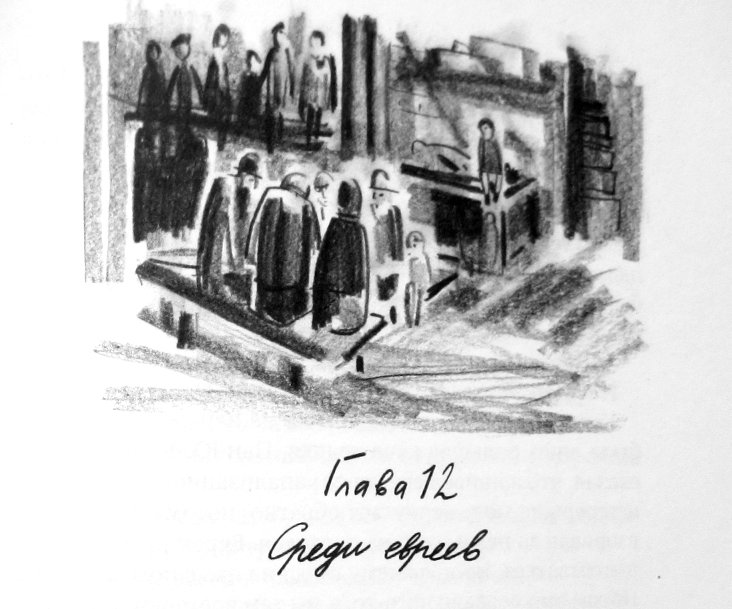
Я передал пану Юзеку фонарь и попросил посветить мне снизу, и когда он осветил крышку люка, я поднял железный кол, который висел рядом с ней на цепи, и стал изо всех сил стучать по крышке. Хотя я не знал, кто находится наверху, я на всякий случай попробовал, как это делал Антон, простучать нашу условную серию ударов. Но ответа не было. Тогда мы, сменяя друг друга, начали бить по этой наглухо задраенной металлической крышке.
Я еще раньше объяснил пану Юзеку, что такой люк — это вход в подвал, который евреи-владельцы превратили в бункер, убежище для семьи на случай беды, и что именно через такие люки мы с Антоном всегда попадали в гетто, когда приходили со своими товарами. Возможно, сейчас, когда вспыхнуло восстание, все изменилось. Возможно, тут сейчас вообще никого нет. Но я подумал, что в крайнем случае мы, наверно, сможем поднять крышку сами. Я хорошо помнил, что, поднявшись в бункер, никогда не видел там тяжелых мешков или грузов, снятых с крышки, как это было у нас в подвале, — люк прикрывала только груда грязных вонючих тряпок.
Мы начали толкать крышку и вдруг услышали наверху, над нами, возбужденные голоса. Кто-то торопливо пробежал по полу. И наконец раздался крик — сначала по- польски, потом на идише:
— Кто там?!
И крышка стала медленно подниматься.
Когда мы вышли, я увидел, что на ней действительно была лишь большая куча тряпья. Пан Юзек назвался и сказал, что я привел его через канализационные каналы и теперь не могу вернуться обратно, потому что немцы взорвали за нами один из проходов. Евреи начали перешептываться, по-прежнему глядя на нас с подозрением. Потом они позвали кого-то, а мы тем временем выбрали тряпки, что почище, и уселись на них. И тут пришел один из тех трех братьев, с которыми мы раньше имели дело, и сразу опознал меня.
— Да ведь это Мариан, сын пана Антона! — воскликнул он, указывая на меня.
Кто-то разочарованно сказал:
— Почему же они ничего не принесли?
И тут выяснилось, что Антон обещал прийти сегодня с ящиком «конфет». Я ощутил прилив надежды. Если даже наша прежняя дорога закрыта, Антон наверняка найдет другой путь, заявится сюда и выведет меня обратно.
Кстати, «конфетами» на нашем торговом жаргоне назывались патроны. Я помню и другие такие слова: «едой» называлось всякое оружие, «яйца» — это были гранаты, а «самое главное для тещи» — винтовки.
Они опять стали шептаться.
— А где Антон, Мариан? — спросил меня еврей, которого я знал.
Я ответил, что не знаю, я ушел без его ведома.
Тогда он громко крикнул:
— Пан Просяк, пан Просяк!
Пан Юзек поднял голову и повторил удивленно:
— Пан Просяк?
И тут появился человек, которого они звали. Он не узнал пана Юзека — возможно, из-за того, что тот был весь в грязи, — но пан Юзек сразу же воскликнул:
— Эдек! Я так и думал, что это ты!
И, повернувшись ко мне, сказал:
— Это мой школьный друг из тех давних, хороших времен…
Теперь Просяк тоже узнал его и явно обрадовался. Он пожал ему руку, но тут же отступил:
— Прежде всего — помыться! — сказал он.
Но стоявшие вокруг евреи тут же воскликнули: «Минуточку!» Они отвели его в сторону и стали о чем- то возбужденно говорить, то и дело поглядывая в мою сторону. Пан Просяк каждый раз кивал головой в знак согласия. Я подумал, что они, наверно, пытаются найти какой-то иной путь получения патронов.
Потом пан Просяк снова вернулся к нам, и пан Юзек церемонно представил меня ему, словно мы находились на каком-нибудь званом приеме. Но я не стал протягивать ему руку.
Пан Просяк пошел впереди. Мы последовали за ним. По дороге я рассматривал подвал. Он был похож на тот, в который мы так часто поднимались, но намного больше. Он напомнил мне убежище, в котором мы сидели в тридцать девятом году, во время немецких бомбежек Варшавы. Евреи называли его бункером — возможно, потому, что собирались замаскировать вход в него и прятаться там от немцев. Повсюду лежали матрацы, а на стенах были закреплены полки, как в спальных вагонах для спанья. Пан Просяк сказал нам на ходу, что они вырыли тут колодец и устроили вентиляцию. По дороге нам встретилось несколько мужчин и женщин, которые что-то мастерили, и пан Юзек хотел было остановиться и посмотреть, но пан Просяк сказал, что времени нет — он должен немедленно отвести нас на квартиру знакомого, где мы сможем помыться.
При виде нас кое-кто из находившихся там людей оставлял работу и подходил, чтобы расспросить, кто мы и откуда, но пан Просяк всем строго говорил:
— Извините, но я должен поскорее провести этих двух панов на квартиру, где есть душ.
«Те еще паны», подумал я, рассматривая свою загаженную одежду, и вдруг встретился взглядом с подошедшей к нам молодой женщиной. Она тоже глянула на нашу одежду, потом на наши всклокоченные головы, мы встретились глазами и улыбнулись друг другу, потому что назвать нас «панами» в эту минуту было и в самом деле немалым преувеличением.
На выходе пан Просяк объяснил нам, что этот бункер построили двадцать семей, насчитывающих примерно восемьдесят душ, и это убежище хранится в глубокой тайне. Но по случаю Песаха с польской стороны пришло много людей, чтобы отпраздновать его со своими родственниками, и теперь у них собралось сто двадцать человек. И всех их придется втиснуть в это убежище, иного выхода нет. Если на день-два, это не составит проблемы, но если счет пойдет на недели, беды не миновать.
Я сказал:
— Недели?! Да ведь они задохнутся здесь через час-другой!
Пан Юзек посмотрел на меня, но ничего не сказал.
Да, конечно, они установили тут вентиляционные трубы, я и сам заметил. Но такая вентиляция могла обеспечить воздух лишь для нескольких десятков человек, не больше. Я попытался представить, как будет выглядеть этот бункер, когда в него набьется сотня с лишним людей, и подумал, что, пожалуй, не остался бы в нем ни за какие деньги. Пан Юзек угадал, видно, о чем я думаю, потому что вдруг спросил меня:
— А что бы ты сделал, Мариан, если бы у тебя был ребенок или двое?
Что бы я сделал? Я почувствовал, как у меня непроизвольно сжимаются кулаки.
— Я бы сражался, — сказал я.
Мы прошли через несколько дворов и вышли на Свентоярскую. И вдруг увидели странное зрелище: какой- то человек стоял над гребнем стены, на верху лестницы, и что-то кричал на польскую сторону. Я не видел его слушателей. Возможно, они стояли на улице или в саду, потому что как раз там за стеной находился сад Красиньских. И этот человек буквально ораторствовал. А ведь в любой момент какой-нибудь немец мог всадить в него пулю. Как видно, в это время в гетто наступило затишье. И он кричал полякам примерно такие слова:
— Приходите и присоединяйтесь к нам! Мы должны сражаться вместе, плечом к плечу! Настало время выйти на бой! Настало время подняться против немецких захватчиков, топчущих нашу родину.
Когда он сказал «наша родина», я подумал, что это, в сущности, правильно. Хоть они и евреи, но они и в самом деле родились и выросли здесь, в Польше. И не только они, но и их родители и, возможно, родители их родителей.
Потом он призвал поляков с той стороны поберечься, потому что еще немного — и здесь опять начнут стрелять, а под конец воскликнул:
— Да здравствует Польша!
И когда он спрыгнул вниз, мы услышали за стеной аплодисменты. Я был рад, что и пан Юзек это слышал. Пусть не думает, что все поляки такие, как Вацек и Янек.
Я сказал ему:
— Видите!
Но он только пожал плечами. А потом повернулся к своему другу и спросил, какова его роль здесь. Тот ответил, что он рядовой солдат, если его можно назвать солдатом. Но он еще и ответственный от подпольной организации за весь тот бункер, куда мы поднялись из канализации. В свою очередь, он спросил пана Юзека, трудно ли было идти по каналам, и тот ответил, что его больше взволновал услышанный нами взрыв. Оказывается, Антон обещал не только доставить в гетто крупную партию патронов, но и вывести отсюда большую группу людей из числа вернувшихся на праздник. И если дорога перекрыта…
Пройдя с нами еще немного, пан Просяк попросил прощения, что не может провожать нас дальше, потому что обязанности ответственного за бункер требуют его скорейшего возвращения туда, но пообещал, что его друг, доктор Раппопорт, примет нас в своей квартире, как принял бы его самого, и мы сможем там помыться, сменить одежду и поесть.
И так оно и было. Но свои ботинки мне все же пришлось почистить, потому что пан Юзек категорически отказался взять обувь у доктора Раппопорта и мне запретил тоже. Он сказал, что если нам придется снова идти по туннелям или куда-то бежать, чужие ботинки могут нас подвести.
А потом он вытащил из своей мокрой одежды два больших пакета денежных купюр и дал их мне.
— Как договаривались, — сказал он.
Я взял деньги — они были немного влажными — и понюхал их. Они тоже воняли канализацией. Кто сказал, что деньги не пахнут?
А потом хозяева во главе с паном Раппопортом пригласили нас к столу. И когда пан Юзек увидел, как я поражен обилием еды, он снова напомнил мне о Песахе. Всё это были остатки вчерашней праздничной трапезы.
Тут и в самом деле было что поесть. Мне трудно было поверить, что вот, немцы приступили к окончательной ликвидации последних евреев Варшавы, а они еще вчера сидели тут и радовались тем яствам, которые достали с большим трудом и за большие деньги или приготовили сами. А что сказать о тех, кто оставил надежное укрытие, вроде евреев моего дяди, — и только для того, чтобы вернуться сюда на этот праздник?!

За столом вместе с нами сидело еще несколько человек, и некоторые были в шляпах. Антон не придумал это. Но то были самые пожилые люди. Сидели с нами и молодые, к разговорам которых я особенно старался прислушаться, хотя не все понимал. Но кое-что мне объяснял пан Раппопорт. Главным рассказчиком был человек, только что бежавший из Треблинки. Его рассказ был ужасен — словно человек вернулся из ада. Он во всех деталях описывал, как немцы убивают там евреев, которых грузят на поезда здесь, в Варшаве, заверяя их, будто они едут в Германию на работы. Посреди этого рассказа пан Юзек положил вилку — он не мог есть. Но я шепнул ему, чтобы он ел, иначе у нас не будет сил ни на что, и он снова вернулся к еде, хотя видно было, что он жует чисто механически.