29
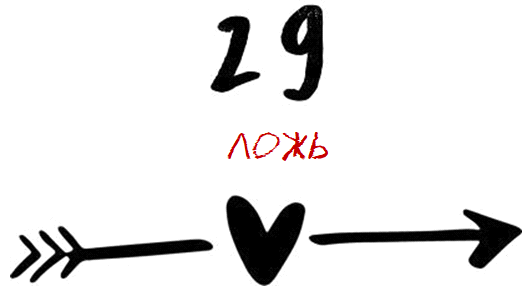
Всё имеет последствия.
КЕЙСИ
Почему она сюда приехала?
О, вот вопрос еще лучше. ПОЧЕМУ ТЫ ЕМУ НЕ СКАЗАЛА?
Потому что ты тупица, как сказала бы Кэмдин.
Я делаю глубокий вдох, пытаясь отдышаться, но все равно задыхаюсь. Кажется, у меня сердечный приступ. Или приступ паники. Это не одно и тоже? У них одинаковые симптомы? Мне вытянуть руку над головой?
Нет, нет. Это если задыхаешься.
Подышать в бумажный пакет?
Нет, это при гипервентиляции.
Мне нечем дышать. Но сердце бьется. Оно сердится и злится на меня.
— Кейси? — Кэмдин дергает меня за руку. — Ты в порядке?
Я думаю, что киваю, но кто знает.
— Папа? А кто эта девушка? — спрашивает Кэмдин как только Бэррон входит в дом и захлопывает за собой дверь.
Не обратив внимания на вопрос Кэмдин, он кладет обе руки на кухонную стойку и опускает голову. Он злится? Он меня ненавидит? Что ему сказала Тара?
У меня куча вопросов, но не уверена, что получу на них ответы. И я уж точно их не заслуживаю.
— Я хочу есть, — говорит Сев, поглаживая кота, который лежит на столе и слизывает с печенья глазурь. И не дожидаясь, пока кто-нибудь ее остановит, Сев берет это печенье и съедает его.
Я не знаю, кто недоволен больше — Бэррон или кот, чье печенье слопал ребенок.
— Я отвезу девочек к своему отцу, — произносит наконец Бэррон, и в его голосе слышны нотки, которых я раньше не слышала.
Кэмдин упирает руки в бедра.
— Я хочу испечь печенье! — она держит формочку для печенья в виде оленьих рогов, который откуда-то вытащила, когда мы вошли в дом. — Ты сказал, что мы будем печь печенье.
Лицо Бэррона немного смягчается.
— Мы испечём его сегодня вечером, — он наклоняется и целует ее в лоб, а затем подает ей куртку. — Мне нужно поговорить с Кейси, а бабушка Ли приготовила для вас особое угощение.
— Не хочу я угощенья, — говорит Сев, плюхнувшись на пол у его ног. Ведьминская шляпа, которую она носила все утро, спадает у нее с головы. — Я хочу писюньки.
Я изо всех сил борюсь со смехом из-за того, как она произнесла «печеньки», но сдерживаю себя, зная, что сейчас всем не до смеха.
— Надо говорить «печеньки»! — орет в ответ Камден, витающее в воздухе напряжение доходит и до нее.
Сев пинает ногой сестру.
— Я так и сказала! — кричит она, и вслед за этим раздаются надрывные рыдания.
Все на взводе, и девочки теперь этим подпитываются. Одна плачет, другая по неизвестным ей причинам злится на своего отца.
— Нет! Ты сказала «писюньки». Такого слова даже нет!
— Господи Иисусе! — стонет Бэррон, проводя руками по лицу. — У бабушки Ли тоже есть печеньки. А теперь вставайте и тащите свои задницы в грузовик, — предупреждает он, глядя на девочек.
Они почти сразу подчиняются. Черт, даже я подумываю о том, что мне стоит забраться в грузовик.
И вот тогда Бэррон впервые поднимает на меня глаза с тех пор, как зашел в дом. Я оцениваю его реакцию. Жду. В пяти шагах от него жмусь к холодильнику, у которого он впервые меня поцеловал. Бэррон стискивает зубы, сужает глаза. Он подходит ближе, наше дыхание смешивается.
— Тебе лучше быть здесь, когда я вернусь. У меня к тебе много вопросов, — его голос — едва слышное шипение, но в нем звучит предупреждение.
Я сглатываю. В прямом смысле слова. Пытаюсь ему ответить и чуть не захлебываюсь собственной слюной. Мне снова нечем дышать. Слова испаряются. Что это были за слова? Что я собиралась сказать? Что я заставила его поверить, что ворвалась в его жизнь?
Эта часть была правдой. Я не знала, где именно он живет в Амарилло.
Это была судьба, так ведь?
Я открываю рот, чтобы ответить, но тут же замолкаю, когда брови Бэррона взлетают вверх в молчаливом предупреждении — в приказе заткнуться.
Я смотрю, как Бэррон уводит девочек, полностью готовая к тому, что вижу их последний раз. А что, если так? Позволит он мне с ними попрощаться? У меня душа уходит в пятки, и я ненавижу это чувство. Мне даже не нравится кататься на американских горках, так что я и это чувство — мы друг другу не нравимся. Я хочу убежать, спрятаться от выражения его лица, но не могу. Я заварила эту кашу. Поэтому должна встретиться с ним лицом к лицу и все объяснить.
Какого черта я решила, что остаться — это хорошая идея? Ах, да. Потому что мне было страшно. В штате Карнатака на юго-западе Индии новорожденных выбрасывают из окна на импровизированное одеяло с высоты в тридцать футов, чтобы привлечь внимание толпы. Это не очень хорошая идея.
Три недели скрывать от Бэррона нашу связь с Тарой было реально плохой идеей.
Я идиотка. Чертовски тупая идиотка, и меня следовало бы выбросить из окна.
Осознание этого поражает меня, как пуля в сердце. И тогда я разражаюсь рыданиями. Я знаю, что не имею права жалеть себя за свои поступки, но это не заглушает боль.
Через двадцать минут я слышу, как к дому подъезжает грузовик Бэррона. В ожидании его я нервно мечусь по кухне. Бэррон входит в дом и бросает ключи на кухонную стойку. Я готовлюсь к словам, которые наверняка услышу, потому что заслужила их, и они причинят боль. Но ничего не приходит. Ни гнева. Ни криков. Вообще... никакой реакции.
Бэррон делает ровный, контролируемый вдох.
— Ты осталась. Хм. Я был уверен, что ты уйдешь.
— Куда мне идти? Стопануть лошадь? — с сарказмом говорю я, потому что жутко нервничаю, а когда я нервничаю, то становлюсь саркастичной.
Бэррон ничего не отвечает. Ни слова, только смотрит, да, этого достаточно, чтобы у меня похолодела кровь. Чтобы я была готова умолять его трахнуть меня на этой кухонной стойке. Срань господня. Почему этот взгляд такой чертовски горячий? Привяжи меня к своей кровати. Сделай своей заложницей. Излей на меня весь свой гнев.
«Кейси, нет».
Скажи что-нибудь. Объяснись.
— Прости, — поспешно говорю я. — Я могу уйти. Я не...Прости, что я ничего не сказала.
Бэррон поднимает руку, качает головой и показывает на холодильник.
Хорошо. Что это значит? Я замечаю, что его рука в крови.
— Боже мой, твоя рука.
— Все в порядке.
Бэррон проходит мимо меня и открывает дверцу холодильника. Дотянувшись до стоящего в морозилке Southern Comfort (прим. пер. марка ликера), он откручивает крышку и подносит бутылку к губам. Наши взгляды встречаются. Сделав прямо из бутылки два глотка, он ставит ее на стойку. Бэррон удивительно... расслаблен. Я пытаюсь расшифровать выражение его лица, сжатые губы, его дыхание, все это, но не могу. Правда в том, что я не очень хорошо знаю этого парня. Может, он один из тех, кто скрывает свои эмоции, а затем срывается на тебе, когда меньше всего этого ждешь. Таким был мой отец.
Прикусив губу, я тереблю рукава своего свитера, думая, получится ли у меня задушить себя ими и больше не чувствовать эту боль.
— Ты, наверное, очень на меня злишься.
— Я не злюсь, — шепчет Бэррон, уставившись на бутылку и покачивая головой
Он смотрит мне в глаза, его губы сжаты в тонкую линию.
— Ладно, я злюсь. Но мне любопытно... ты знала, когда тут появилась?
— Кто ты такой? Технически нет. Но о тебе я знала.
Я смотрю на него, и он смотрит мне в глаза. Я сажусь рядом с ним и начинаю объяснять.
— Когда я проезжала ваш город, то не знала. Клянусь. Я просто ехала, а потом ни с того ни с сего разразилась буря, и... я понятия не имела, где ты живешь.
Я вздыхаю, понимая, что это не совсем правда.
— Я знала, что ты живешь здесь, в Амарилло, потому что пару раз отправляла тебе по почте бумаги, но это не значит, что я запомнила твой адрес и не собиралась искать тебя или типа того. Когда той ночью ты назвал свое имя, я сложила два и два.
— Я так и думал, что-то в этом роде.
Бэррон делает глубокий вдох, встает и начинает расхаживать по кухне, все еще держа в руке бутылку Southern Comfort.
— Но именно в ту ночь ты должна была мне все рассказать. До того, как это зашло слишком далеко.
— Знаю, но я этого не сделала.
Я продолжаю сидеть у кухонного острова, боясь пошевелиться. Мои слова не имеют никакой силы, но я говорю:
— В свое оправдание скажу, что я пыталась уехать. Несколько раз.
Бэррон подходит ко мне, и я встаю. Поставив бутылку на кухонную стойку, я замечаю, что он сохраняет самообладание, но все еще зол. Его темные глаза заглядывают в мои.
— Почему ты просто мне не сказала? Я бы, наверное, посмеялся над этим, но теперь мне кажется, что ты сделала это специально, чтобы причинить мне боль.
— Я никогда не хотела причинить тебе боль, — умоляю я, надеясь, что он меня поймет. Мои слова полны мольбы и отчаянья, потому что я не могу смириться с тем, что он думает, будто я его использовала. — Я хотела тебе сказать, но каждый раз, когда я пыталась, время оказывалось неподходящим, и мне не хотелось разрушать то, что у нас было.
Бэррон осторожно поднимает руку, касаясь большим пальцем моей щеки. Он молча и пристально смотрит мне в глаза. Как будто оценивает мою честность.
— Я бы хотел, чтобы ты сказала мне правду до того, как вовлекла в это их.
Их? Его дочерей. От его слов у меня замирает сердце. Я вздрагиваю. Его заявление сбивает меня с ног, и кажется, будто я придавлена к земле тысячей фунтов стали. Извинения застревают у меня в горле, но мне удается сказать:
— Прости.
Потянувшись за Southern Comfort, он делает из бутылки еще один глоток, а затем с грохотом ставит ее на стойку.
— Ты уже это говорила, — огрызается Бэррон и делает еще один глоток.
И еще один.
Бэррон ставит бутылку на место и вздыхает.
Я сглатываю, горло обжигают слезы.
— Я должна идти. Я могу уйти.
Пространство между нами заполняет тишина, и я стою словно парализованная, не зная, что мне сказать или сделать.
Бэррон поднимает бровь, его дыхание легкое и свободное.
— Не будь такой, как она.
Это меня задевает. Глубоко.
— Что?
— Не входи в их жизнь и не уходи прямо перед Рождеством.
Я быстро моргаю, пытаясь понять, о чём он говорит.
— Ты хочешь, чтобы я осталась?
— Я... не знаю, чего хочу, — признается Бэррон. — Я даже не знаю, как осмыслить последний час, но точно знаю, что, если ты от них уйдешь, это их раздавит. Так что не уходи. Останься. А потом после Рождества мы все обсудим.