ВЕЧЕР ДЕВЯТЫЙ
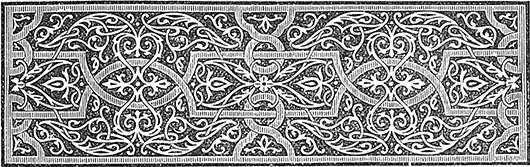
Геродот. — Фукидид. — Мейоротто. — Галль. — Шапп. — Брегет. — Виттингтон.
Жорж снова был героем дня, но на этот раз уже в совершенно ином отношении.
Ришар, будучи превосходным садоводом, занимался прививкой шиповника и плодовых деревьев. Все мы окружили его и наперерыв осаждали вопросами относительно этой общеупотребительной в садоводстве операции, которая тем более поражает своими результатами, что в сущности очень проста. Но я ошибся, сказав, что все предлагали ему вопросы: Жорж ни о чем не спрашивал, но внимательно слушал и с любопытством следил за отцом, когда последний на деле объяснял теорию прививки деревьев. Вся процедура ее совершилась на наших глазах, и все последствия, которые она может иметь, были нам выяснены. Ришар изложил нам теорию скрещивания различных пород растений и сообщил много любопытного о симпатиях в их взаимных соотношениях. Он сделал исторический очерк этого важного вопроса, начиная с древних времен до новейших изысканий наших ученых садоводов. При этом Ришар не упустил случая объяснить нам изумительные явления в жизни растений, незаметные для людей несведущих в ботанике; он обратил наше внимание на аналогию в обращении соков растений с кровообращением у животных, на каждодневный и каждогодний сон растений, на их дыхание и прорастание, на рост ствола кверху при противоположном направлении роста корней, на разнесение семян ветром, на образование древесинных слоев, на болезни и смерть растений. По мере того, как Ришар вводил нас в интересные тайны растительного мира, полного чудес, все мы приходили в восхищение, и только Жорж не прерывал молчания. С видом глубокой задумчивости он следил с напряженным вниманием за отцом в продолжение его любопытных объяснений. По окончании разговора, братья пошли играть на террасу, а Жорж, задумчивый и молчаливый, ушел в чащу леса, примыкающего к саду. Полчаса спустя, гуляя с Ришаром по террасе, я увидел Жоржа, который выходил из лесу и направлялся к нам быстрыми шагами. Глаза его блестели оживлением, и он, казалось, освободился от тяжелых мыслей, в которые еще так недавно был погружен.
— Папа, — сказал он решительным тоном, останавливаясь в двух шагах от нас, — папа, послушай!
— Говори, мое милое дитя, я слушаю; ты наверное хочешь сообщить мне что-нибудь приятное? — спросил отец.
— Я хотел бы быть садовником, если ты ничего не имеешь против этого, — ответил Жорж.
— Садовником? — переспросил отец.
— Да, папа. Ты согласен? — спросил еще раз ребенок с лихорадочным нетерпением.
— Я не отказываю, — отвечал отец, — потому что я был бы очень счастлив, если бы кто-нибудь из моих сыновей сделался искусным садоводом. Но прежде чем решиться на это, подумал ли ты, что садоводу недостаточно уметь выполоть грядку, обрезать или привить дерево: садовод должен иметь основательное и всестороннее образование.
— Я об этом думал, — сказал Жорж. — Я потому хочу быть садоводом, что желаю сам узнать все то, о чем ты нам рассказывал. Я хочу видеть все это каждый день собственными глазами. Это так прелестно!
— Хорошо, я окажу тебе полное содействие в достижении цели, но ты с своей стороны должен обещать мне заниматься так, чтоб приобрести необходимое ученому садоводу образование. Например, для знакомства с классификацией растений ты должен будешь изучать латинский язык, к которому до сих пор относился с большим пренебрежением.
— Теперь уж я пренебрегать им не буду, ты увидишь! — сказал Жорж.
— География, в которой ты всегда хромаешь, знакомит нас с положением страны относительно широты и долготы и дает садоводу понятие о климате, что необходимо для выращивания экзотических растений.
— Я буду прилежно заниматься географией.
Одним словом, Жорж не испугался трудностей, а отец, уважавший все профессии, сближающие человека с природою, не мог не одобрить намерений сына; но так как Жорж обязан был своим решением случайному обстоятельству, то это навело меня на размышления о том, какое влияние имеют иногда на участь человека обстоятельства, которые по-видимому должны были бы пройти совершенно бесследно.
Воспользовавшись этой мыслью, я вечером объявил моим маленьким слушателям, что беседа наша будет иметь предметом вопрос: от каких причин иногда зависит призвание человека?
За 400 лет до Рождества Христова греки собрались в Элиде на берегах реки Алфея для празднования олимпийских игр — национального празднества, о котором ни одно из наших новейших празднеств не может дать ни малейшего понятия. «Не ищите на небе звезды, которая была бы ярче солнца, — говорит греческий поэт Пиндар, — а среди человеческих празднеств не ищите чего-либо великолепнее олимпийских игр».
Учреждение олимпийских игр греки приписывали своим богам; игры эти имели религиозное и общественное значение, и потому бесконечное число зрителей стекалось на них. Различные греческие племена принимали участие в них в лице своих лучших представителей, которые употребляли все усилия к тому, чтобы выказать в самом благоприятном свете свое родное племя.
Эти праздники продолжались обыкновенно около пяти дней; они открывались торжественными процессиями и жертвоприношениями богам; затем следовали: единоборство, состязание в физической силе, бег для детей и для взрослых, конские ристалища и бега на колесницах. Все эти состязания сопровождались обыкновенно музыкой, и хоры певцов прославляли победителей. Призами служили простые оливковые венки или пальмовые ветви, но одержать триумф на олимпийских играх было самою высшею почестью для гражданина Греции. Победа прославляла не только того, кто одержал ее, но и все его племя. При возвращении победителя с празднества, в городской стене делалась брешь, чрез которую он должен был въезжать на колеснице, запряженной четверкой лошадей. Это означало, как повествует Плутарх, что город, обладающий таким гражданином, не имел уже более надобности в укреплениях. Вы помните, что когда Филиппу объявили о рождении Александра, то он видел счастливое предзнаменование для новорожденного в известии о призе, который получил на олимпийских играх один из его коней.
Празднество обыкновенно оканчивалось религиозными церемониями и торжественными пирами в честь героев, удостоенных венка или пальмовой ветви. Так как на эти игры собирались лучшие мужи Греции, то артисты, поэты и писатели соперничали там своим искусством. Живописцы и скульпторы выставляли свои произведения, поэты читали свои стихотворения, ораторы произносили речи; все эти произведения оценивались по достоинству и в случае успеха доставляли авторам всенародную славу.
Всякая племенная вражда прекращалась на время празднеств, которые происходили один раз в течении каждого пятилетия. Промежуток между играми назывался олимпиадою; олимпиадами велось летосчисление. Эпоха, о которой я буду говорить теперь, обозначается по летосчислению греков восьмидесятою олимпиадою, по нашему же летосчислению это будет 400 г. до P. X.
Состязания в физической силе были окончены, бесчисленные зрители восторженно приветствовали победителей, а в промежутках между состязаниями многие поэты, пришедшие из различных городов, читали сочиненные ими гимны богам или национальные легенды. Воспроизведение национальных воспоминаний составляло в ту эпоху как бы привилегию поэзии. Краткие повествования о подвигах и событиях, с обозначением имен героев и времени происшествий, можно было найти на мраморных стенах храмов; некоторые из летописцев собирали или упрощали сведения, заключавшиеся в этих надписях; но несмотря на богатство и обилие исторических событии, Греция, собственно говоря, не имела еще настоящего историка.
Человек еще молодой, лет тридцати приблизительно, но обнаруживавший уже привычку к серьезным занятиям и размышлению, вышел со свертком в руке из группы граждан Самоса и по-видимому просил внимания. В собрании воцарилась мертвая тишина; оратор на мелодичном ионийском наречии произнес следующее: «Граждане Греции! Геродот Галикарнасский, которому боги не даровали счастья носить принадлежащее вам по рождению благородное имя, почувствовал однако с самых юных лет пробуждавшееся в нем влечение ко всему тому, что касается славной страны, сынами которой вы имеете счастье быть. Еще юношей покинув свое отечество, он посвятил десять лет на путешествие по странам, история которых имеет связь с историей Греции; он ознакомился с наречиями и нравами обитателей этих стран, почерпал знания из монументов, из греческих книг и из рассказов старцев. Затем он обошел всю Грецию, предаваясь тем же занятиям и исследованиям. По возвращении на родину он нашел ее под игом жестокой тирании; он искал в Самосе необходимого ему покоя для того, чтобы привести в порядок приобретенные сведения и приступить к бытописанию греческих племен. Составленная им история написана в девяти томах, и он пришел сюда предложить вам прослушать из нее главные повествования, чтобы убедиться — достойно ли его произведение того высокого предмета, о котором оно повествует».
Слова эти встречены были одобрительными возгласами. Чтобы чтение историка было слышно всему собранию, ему дали место на почетной трибуне, где восседали в пурпуровых тогах судьи состязаний, так называемые элланодики. Ближайшие к эстраде места были заняты известными по своему высокому образованию гражданами Афин. Между ними был и Олор, потомок знаменитого Мильтиада, прибывший на празднество с своим двенадцатилетним сыном, учеником великого философа Анаксагора.
Тишина снова водворилась. Геродот сделался предметом напряженного, благоговейного внимания, так как самое событие имело весьма важное значение для греков. Он развернул свою рукопись, начал читать один из главных эпизодов первой книги истории, и через несколько минут собрание было уже вполне очаровано его чтением: до такой степени его повествование отличалось простотой и занимательностью, а слог — ясностью и благозвучностью. «Никогда, — сказал один из слушателей в промежутке, — греческая проза не была так величественна и изящна!»