ЭПИЛОГ
«Hodie mihi, cras tibi»[64].
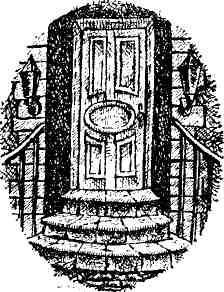


Напрасно Мориц ждал своего хозяина, запертого в деревянный короб, коротенький, словно гробик ребенка.
Три ночи он приходил звать его, воя на меловый свет луны. Три ночи. Потом понял, что тот уже не вернется, как не вернулся другой хозяин, старьевщик Мориц Шор. Он выводил последнюю жалобную ноту, самую долгую и печальную, до тех пор, пока луна не спрятала свое вурдалачье лицо за холм Кэлимана. И побрел в город, на пустыри с бурьяном и помойками, на улицы, где с завтрашнего утра в него снова будут швырять камни, будут лить на него щелок и натравливать своры собак.
И все же Пику Хартулар встал из могилы.
Он не нашел там покоя. Пусть не тем хриплым голосом, как при жизни за столом у «Ринальти», но ему было еще что сказать.
Он стал мукой и ужасом города, где отныне многие обитатели тревожно ворочались во сне и таращили в темноту круглые от страха глаза.
Отныне никто не мог запереть перед ним двери.
Тень мертвеца проходила сквозь все двери. Сквозь все двери, куда он стучался при жизни. Проходила без шума и стука, в полночный час.
Присаживалась на край кровати, не произнося ни слова, сложив на коленях длинные белые ладони и печально глядя в землю. С одежды текла вода. Дробно стучали зубы.
Но он не произносил ни слова.
Не жаловался. Никого не упрекал, ни с кого не спрашивал отчета. Сидел на краешке кровати и ждал. В один и тот же миг он проходил сквозь двадцать стен, входил в двадцать домов, чтоб занять свое место на краю кровати и ждать — как укор совести с того света.
Так проходил он сквозь дверь Тудора Стоенеску-Стояна и, неподвижно застыв у него в ногах, присматривал за его сном. Так являлся Лисавете, которая просыпалась со стоном, проклиная его, урода! Будь, земля ему камнем на его выпяченной груди, поскорее бы сгнило его сердце! Так входил в спальню госпожи Клеманс Благу, и Анс хныкала, корчась в постели: «Встань, Вонючка, прогони его! Чего лежишь?» Так проходил он сквозь дверь Лауренции Янкович. Теперь ночи ее стали еще страшнее. Не стучался больше у ворот ее Ионикэ, некому было крикнуть: «Погоди, Ионикэ, не уходи. Постой, не уходи!..» Сон этот как отрезало. Он пропал. Теперь к ней сквозь запертую дверь входил калека в промокшей одежде, каким она его видела, — вытащенный из воды утопленник. Она не знала, как он появлялся, как входил. Не знала, как не знал и никто из остальных. Как и они, вдруг просыпалась и видела — он сидел на краешке кровати и глядел в землю, сложив на коленях руки, с намокшего горба катилась вода, образуя у его ног черную лужу — такую черную, какой может быть только вода в другой, адской жизни, — цвета дегтя.
Проникал Пику Хартулар и сквозь дверь Адины Бугуш, в комнату с мебелью из никеля и стекла.
Ни один запор не мог ему помешать. Никто и ничто не могло его остановить. Лисавету он пригвождал к постели, потому что бывал у нее одновременно с тем, как появлялся во сие у постелей других людей городка: Эмила Савы и Тудора Стоенеску-Стояна, госпожи Клеманс Благу и отца Мырзы, Лауренции Янкович и множества пескарей, из тех, кого созывал полковник Цыбикэ Артино в своей поименной перекличке: Пескареску, Пескаревича, Пескаряну, Пескаревского. Но здесь, у постели Адины Бугуш, он оставался дольше, до самого рассвета, здесь печальнее глядел в землю, сложив на коленях длинные руки. Здесь ему много чего хотелось сказать, чего не сказал при жизни и не осмеливался сказать даже теперь. Но он довольствовался и тем, что приходил, молчал и ждал. Никто не мог его прогнать! Сквозь двери он входил и выходил, словно дым в открытое окно.
Круги под глазами Адины Бугуш сделались еще темнее.
— Это стало просто невозможным! — воскликнул господин префект Эмил Сава, в сильном раздражении позвякивая ключами. — Этот каналья и мертвый не унимается!
Тудор Стоенеску-Стоян, пожевав слова и ощущая горечь во рту, признался:
— Со мной происходит то же самое. Вот уже неделя, как он снится мне каждую ночь. Приходит, усаживается, и ничем его не выгонишь. Проснусь — исчезает! Усну — он на своем месте! Это что-то невообразимое.
Оба помолчали. Теперь они ничего не могли с ним поделать. Но господин Эмил Сава ни за что на свете не мог смириться с унизительным признанием своего бессилия. Мертвеца они ненавидели еще более люто, чем живого, как если бы он и в самом деле, нарочно и по собственной воле, возвращался с того света, чтобы посмеяться над ними, безоружными, и с мрачным удовлетворением продолжить свою миссию за столиком пескарей.
Он изобрел пытку, которой не мог придумать при жизни. Только он был способен на подобную извращенную месть — мучать сограждан из могилы.
Свои чувства господин префект Эмил Сава выражал четко.
— Людей этого сорта нужно уничтожать! — исступленно твердил он, тяжелым шагом расхаживая по комнате и хлопая рукой по связке ключей, которыми не мог запереть мертвеца.
Затем он вытер платком потный лоб. И начал городить вздор. Он ведь уничтожил его однажды! А мертвеца не уничтожишь. Здесь любая ловкость, любые «двойные удары» дают осечку. Теряют силу.
Мертвые приходят, когда хотят, уходят и возвращаются, когда хотят, входят, куда хотят.
Господину Эмилу Саве эта привилегия казалась нелепой и несправедливой. Он готов был потребовать закона, регламента о мертвецах, издать на этот счет указ.
— И нашел ведь, подлец, время для своих затей! Как раз теперь! Говорю тебе, эта мрачная шутка вполне в его духе. Он делает это нарочно!
«Как раз теперь» означало: в те дни, когда политическая карьера господина префекта Эмила Савы увенчалась величественным, поистине царским деянием.
На площади Мирона Костина гордо возвышалась Административная Палата, с широкими гранитными лестницами, с башней, господствующей над всем городом. Уже подготовили программу открытия, которая предусматривала различные празднества. Для встречи представителей правительства соорудили триумфальные арки. Ожидали приезда двух министров: обещал быть симпатичный и популярный министр юстиции Джикэ Элефтереску, добрый друг господ Эмила Савы и Иордана Хаджи-Иордана. И министр внутренних дел Александру Вардару, человек, куда более тяжелый и не терявший выдержки при сведении политических счетов.
— Боюсь, как бы и этот не устроил нам какой-нибудь пакости! Не понимаю, что понадобилось ему у нас в партии и почему партия призвала его? Ведь он — живой пережиток доисторической политики предвоенных лет, когда не надо было бороться с всеобщим избирательным правом. В те времена вся политическая борьба велась по-иному, в белых перчатках, утонченно, как между добрыми коллегами. Что он понимает в новой, нынешней тактике? Покамест он объявил, что хочет погостить у Санду Бугуша, поскольку в свое время был в дружеских отношениях со старым Бугушем… Только этого не хватало! Он нам всю музыку испортит. Виданное ли дело: министр в гостях у какого-то оппозиционного болвана?! И это называется — заниматься политикой, иметь государственную голову!.. Вот для кого мы трудимся в поте лица!
Открытие проходило под звуки фанфар, был устроен банкет, где произносились тосты. Душой празднества был министр юстиции Джикэ Элефтереску, которого сопровождал Иордан Хаджи-Иордан. Министр оправдал все возлагавшиеся на него народом надежды, обещав встать бок о бок со своим другом Эмилом Савой в его борьбе за подъем края, которому до сих пор правительство уделяло слишком мало внимания. Впрочем, сколь бы превратными ни были судьбы правительства, здесь процветание находится в достаточно твердых руках. И повернувшись со стаканом шампанского в руках, предложил тост за здоровье великого финансиста и неустанного организатора перспективных предприятий Иордана Хаджи-Иордана, мужчины с мощными челюстями и апоплексической фигурой, директора акционерного общества «Voevoda, Rumanian Company for the Development of the Mining Industry, Limited».
Благодаря ему, его предприимчивости и людям такого размаха, как господин Эмил Сава, уезд вступает в эпоху активности и процветания, которых не знают другие районы страны. Нашлось доброе слово и для ценного человека, недавно включившегося в политическую жизнь, с целью поставить на службу согражданам и своей маленькой приемной родине свой ум, талант, высокую честность и благородное бескорыстие, которые могли бы служить примером другим. Тудор Стоенеску-Стоян, скромно потупив глаза, катал в пальцах хлебный шарик, не в силах отделаться от мысли, что и в эту ночь, как только он повернет в двери ключ, ляжет в постель и закроет глаза, — в ногах его кровати усядется Пику Хартулар и, положив руки на колени, опустив глаза в землю, будет мрачно молчать, а с горба его, как из губки, будет бежать вода.