— Огонь! — орал Кукушкин в трубку с такой силой, словно наша батарея была не за два километра, а по крайней мере в Москве.
Справа и слева ударили наши пулеметы, и мы перенесли огонь за пивоваренный завод, где находилась вражеская батарея. Мы выпустили туда снарядов двести. Батарея умолкла. Потом мы снова стали прочесывать передний край справа налево и слева направо.
Мы не заметили, как в наше укрытие ввалились лейтенант Пушков и богатырь Чхеидзе.
И наступила тишина.
Чхеидзе взвалил окоченевшего Милая на спину и пополз в сумерки по ходу сообщения, и Кукушкин, сняв шапку, рукавом полушубка вытер потный лоб.
Ночь наступила сразу, звездная и тихая. Редкие ракеты скатывались с неба в мерзлую землю. От них было еще холоднее.
Лейтенант Пушков вызвал нам смену, и я уполз первым. Шагах в двадцати от наблюдательного пункта над ходом сообщения, вытянув голую руку, лежал убитый финн. Мы все знали, где он лежит, но всегда забывали об этом. Я тоже забыл, и убитый финн снова «вытер мне сопли». Я вздрогнул, выругался и пополз дальше. Я добрался до землянки огневиков и, не раздеваясь, плахой свалился на нары и заснул, как валун в зимнем поле.
Когда сменили Кукушкина, он тоже пополз по ходу сообщения и тоже, как и я, ткнулся носом в руку убитого финна. Ткнулся и остановился. Была минута тишайшей тишины, какой-то провал в этом грохоте и визге, когда отчетливо слышен собственный пульс. Кукушкин застыл и услышал в этой тишине тиканье часов и вспотел от нахлынувшего страха. Будь это какой угодно другой звук, он бы не испугался, а тиканье маятника отдавалось в его душе, как звук гибели миров и созвездий. Кукушкин падал и падал в бездонный провал страха.
Но постепенно падение замедлилось, и он снова почувствовал себя на земле, и тиканье часов стало обыкновенным тиканьем, с которым можно было освоиться и что-то предпринимать.
Сначала Кукушкин подумал, что это подползают финны и хотят взять его живьем.
Черта с два он им дастся!
Кукушкин сунул наган за отворот полушубка и на всякий случай вытащил из противогаза гранату и стал ждать.
Часы продолжали тикать. Тогда он робко выглянул из бруствера. Снежное изрытое поле, луна и тишина. И в этой тишине четкие удары маятника. Кукушкин огляделся и пополз на звук, готовый к любой неожиданности. Он полз от куста к кусту, от камня к камню, пока не почувствовал,
что часы тикают где-то под его сердцем. Может быть, это мина с какой-то дьявольской машинкой!
Все равно отступать было уже нельзя. Будь что будет! И Кукушкин ковырнул снег и вытащил белую, как снег, руку, опоясанную в запястье аккуратным ремешком. На ремешке были часы и компас.
Кукушкин осторожно расстегнул ремешок, спрятал часы и компас в карман гимнастерки, а руку Бубнова положил около куста в снег и навалил на нее камень, потом встал в полный рост и пошел к батарее.
Над передним краем только редкие трассирующие пули уходили беззвучно к зеленой луне.
Я не слышал, как Кукушкин лег со мной рядом на нары.
Г л а в а д в а д ц а т ь т р е т ь я
АНГЕЛЫ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

— Подъем! — Сквозь сон мы различили голос Доброговечера. — Подъем! Война кончилась! — повторял Добрыйвечер, стаскивая с нас полушубки, и столько в его голосе было жизни и радости, что мы сразу поверили, что он говорит правду, что война в самом деле окончена. Мы сели на нары и стали протирать глаза. Мы вылезли наружу и увидели лес, припорошенный густым чистейшим снегом, и в этом снегу горело и дробилось ослепительное доброе солнце.
Мы умылись снегом, раздевшись до пояса, почистили зубы и побрились.
Мы задали корму нашим коням и сами отправились на кухню к Федотову, и Добрыйвечер дал нам к обеду четыре «мерзавчика».
Мы чувствовали себя отлично. Еще бы! Радость, как снег, прикрыла все наши печали и горести. Да что там говорить, любой солдат, уцелевший после войны, думает, что эта война была последней.
В стороне от огневой позиции, где стояли свезенные в ряд, уже зачехленные пушки, разведчики развели костер и расселись вокруг веселого огня. Огонь можно было разводить теперь какой угодно, и мы не жалели дров. Дрова трещали. Приятно пахло смолой, и тепло внутреннего подогрева от выпитых «мерзавчиков», мешаясь с теплом костра, отогревало и успокаивало нас. Мы молча, каждый по-своему переживали свою радость.
— Батарея! Строиться в баню!
Это очень кстати придумал и позаботился о нас Добрыйвечер.
Мы отошли от огня и стали строиться. Автандил Чхеидзе стоял на правом фланге. За ним Федотов, за Федотовым место Миши Бубнова занял Кукушкин. Равняясь, мы увидели прежде всего тех, кого не хватает в батарее. Потом прямо перед строем мы заметили свежий холм земли и деревянный столбик с латунной звездой. Около холмика на валунах, сняв шапки, сидели Пушков и Щеглов-Щеголихин. Красавец Щеглов-Щеголихин отсутствующим взглядом глядел на свои сапоги и зеленой сосновой веточкой сбивал с них примерзшие комья глины.
Мы вспомнили своего Милая, и нам всем стало скучно, как Щеглову-Щеголихину.
В это время костер, от которого мы только что отошли, взорвался. Метровые горящие поленья, как перышки, разлетелись в разные стороны. Горько запахло толом. Костер был разведен на мине.
— Мины взрываются после войны, — сказал Кукушкин.
Я тогда не обратил внимания на всю глубину сказанного Кукушкиным.
Мы все как-то скисли. Добрыйвечер по пути в баню не требовал от нас песни.
Он все понимал.
В предбаннике, застланном лапником, мы сбрасывали с себя все и отдавали обмундирование в дезинфекцию, а документы Добромувечеру. Все мы были белыми, как бумага, только шеи, лица и кисти рук, освистанные ветром и опаленные морозом, краснели, как вареная свекла.
Колька Бляхман со своими подручными опять устроил настоящую шерстобитню. Чубы носить нам не полагалось.
— Усы — мое личное дело, их трогать не можешь! — басил Автандил Чхеидзе.
— Я сверхсрочник, мне волосы положены!..
Но Бляхман был беспощаден. Чуб он оставлял только на своей голове.
Мы шли в баню, с благоговением и трепетом вставали под струю горячего душа и, замирая от восторга и домашнего тепла, натирали свои тела мочалками. Это было неслыханное блаженство.
Чхеидзе и Федотов шпарили друг друга по спинам сосновыми вениками, потому что березовых нам никто не припас. Спины друзей были кроваво-сизые, но они продолжали усердствовать.
Мы выкатывались из бани в раздевалку, где орудовал Добрыйвечер с чистым бельем и прожаренным обмундированием, бодрые и свежие.
— Куда вы, орлы? — спросил нас Щеглов-Щеголихин, когда мы вышли из бани.
— Руку Бубнова похоронить, — ответил Кукушкин.
И Щеглов-Щеголихин отправился с нами.
Снег, выпавший с утра, прикрыл все безобразие на земле, которое натворили люди. Мы шли, ступая след в след. Мы прошли мимо повозки похоронной команды. На повозке по вытянутой руке я узнал того самого финна, на которого мы всегда натыкались в траншее. Я оглядел его, как старого знакомого.
Кукушкин подвел нас к камню и отвалил его в сторону. Мы долго по очереди плоским кинжальным штыком ковыряли мерзлую землю, пока рука Бубнова не убралась в ямку. Мы засыпали ее, но столбика не поставили, потому что сам Бубнов, по утверждению полкового врача, ангела нашего здоровья, Яши Гибеля, будет жить и здравствовать, а живым памятники не ставят.
Г л а в а д в а д ц а т ь ч е т в е р т а я
КАК ОТПРАВИТЬСЯ НА „ГУБУ“
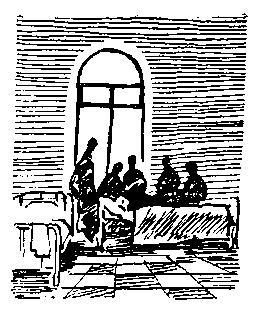
Министру приятно. Он плавно изгибает спину под легким нажимом щетки и косит на меня глазом. Министр блестит, как лаковый. Он вылинял и отъелся. Рядом со мной чистит свою Пирамиду Кукушкин. Ему куда труднее, чем мне. Пирамида вороной масти, а у вороных, хоть ты расшибись в лепешку, всегда в шерсти остается перхоть. Мы встали сегодня в пять часов утра, растопили «титан» и горячей водой с мылом по три раза промылили своих коней. Теперь они подсохли, и мы наводим щетками окончательный блеск.