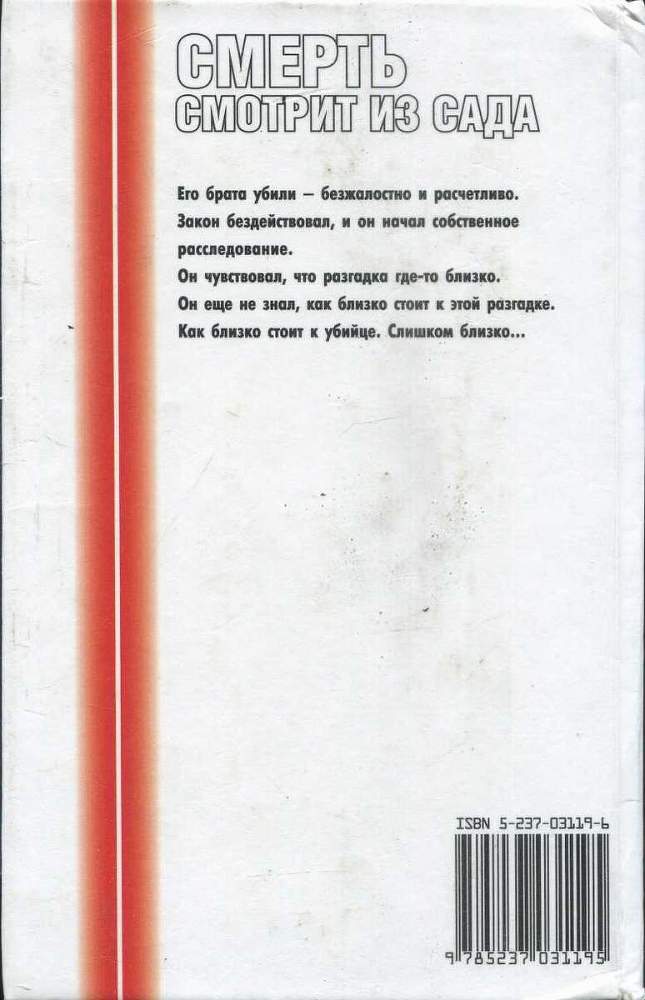— Твоя «незапятнанная» возлюбленная была мне слишком подозрительна. Я пришла раньше и стала наблюдать в окно, как вы пили чай и разговаривали… как вдруг вскочили, ты выбежал, я успела спрятаться за крыльцом и подсмотрела, как эта женщина вылила в твою кружку что-то из пузырька… как тогда в прихожей у Всеволода! Я вошла в дом и переставила кружки.
— Лучше б ты вылила чай из обеих!
— Тебе ее жалко?
— Тебя жалко!
— А я сделала то, что сделала!
Мы вдруг разом вскочили, она — на крыльцо, я — за нею.
— Прощай!
— Опять хочешь меня бросить?
Она уходила, по ступенькам спускалась. Я ее за руку схватил и рывком втащил наверх.
— Не отпущу! Я идиот, я не «покровителя» своего вычислял…
— Демона, ты сказал сегодня.
— Демона, гения… мне никто не нужен, кроме… Я тебя искал!
— Кабы так — давно б нашел.
— Да ведь через такие чертополохи пришлось продираться, через такие топи и склепы!.. Она нас прокляла перед смертью, меня бы ладно, по делу, но и ты… надо было вылить эту последнюю порцию… теперь и ты присоединилась ко мне, мы оба преступники, по высшему счету.
— Я должна была тебя спасти.
— Даже ценою…
— Беса! — перебила она с жестокой радостью. — Что тебе его проклятие?.. Он вырвался, она умерла. Это она тебя заразила смертью.
— Или я ее.
Небо постепенно очищалось, проступали студеные звезды, приметы поместья, древесные тени, крыша сарая, зола пепелища…
— Когда Всеволод составил завещание?
— После встречи с иностранным родственником. Пир закатил — действующие лица те же. Я вскоре ушла. А ночью Сева меня разбудил и потихоньку позвал в кабинет. Там был Евгений.
— Иностранец ночевал на Восстания?
— Поэтому мы и действовали тайком: Всеволод взял с нас слово объявить завещание только в случае его смерти.
— Какой мрак.
— Да ничего подобного. Женечка поразился: «Ты действительно все оставляешь Церкви?» — «Не дождутся! Ни те, ни другие, но какая хохма…» Это была его очередная шуточка — всех в дураках оставить. Он не собирался умирать. Вляпался (его выражение) в оккультное братство — шикарно, забавно…
— Ага, со смеху подохнешь!
— Но там существует одно условие: члены общества должны быть повязаны кровью.
— Кровавая расписка, что ль? Мы в детстве в разбойников играли.
— Надо убить своего врага.
— В каком смысле?
— Ну, может, мысленно, духовно… Он воспринял как средневековую условность, шутку.
— Однако трое мертвых, — пробормотал я, и вновь тот холодок прошел — змейкой по позвоночнику.
— Но какая же связь?
— Не знаю.
В наступившей паузе, казалось, мы подошли к тайне за пределами наших земных возможностей. Я сказал:
— Символическая-то связь налицо, ее сам Паоло подчеркнул. Эти тайные структуры испокон веков функционируют как евангельские перевертыши: Святая Троица — «Тринити триумф», возлюби врага — убей, Литургия — черная месса, Крещение — яд «погребенных»…
— Да Всеволод и не воспринимал про врага буквально!
— Но завещание на всякий случай составил… Нет, воспринимал! — воскликнул я. — Помнишь Дом Ангела? Он был потрясен: «Вот так встреча в вечном городе! Кто тебя сюда послал?» Я говорю, деньжат, мол, удалось подзаработать, построил дом. А он сказал с усмешкой и как-то странно, невпопад: «Неужели ты мой враг?» И я пережил — тоже невпопад — секунду ненависти. Вдруг — мы стали врагами.
— «Вдруг» такого не случается. Вы были соперниками во всем, и в творчестве, и в жизни. Ты беден…
— Это соперничество он давно изжил — компенсировал, так сказать, капиталами.
— Не изжил. Зачем он донес про тебя и художницу и мы расстались?
— И все-таки не он пытался меня отравить, а я его!
— Защитная реакция — заразился.
— Мне, конечно, хотелось бы свою вину свалить на покойного… — Я усмехнулся. — Впрочем, какая-то доля истины в твоих словах есть. Инициация в оккультной традиции имеет своим элементом шок, когда потрясенный человек меняется кардинально, как бы переживает второе, «мистическое» рождение. Я это очень сильно в Петре почувствовал, и в поэме есть намек: «Вы причастились ядом знанья — и пережили жизнь и смерть, ваш враг умрет…»
— Ой, какой забубенный романтизм!
— Что ж, Севка был графоманом, но в байронических ветхих одеждах чувства-то искренние. Представь! В белом палаццо ночью на пиру некто заявляет: вы выпили бокалы с ядом и сейчас умрете.
— Да кто ж поверит!
— Зависит от силы внушения. Паоло обладает ею, Марья Павловна почувствовала и недаром прозвала его граф Калиостро. Итак — шок. Потом разрядка: не вы умрете, а ваш враг.
— Да! Всеволод сказал, давая нам завещание подписать: «Уж если мне суждено иметь врага, он от меня ничего не получит!»
— Поздно спохватился. Паоло их уже закодировал.
— Их?
— Судя по всему, ко мне по наследству перешел Петр. Думая, что держит меня в руках (почти буквально — на берегу пруда показалось — сейчас задушит), он слишком раскрылся. А структура секретнейшая, раз все бумаги уничтожены, даже вариант несчастной поэмы… — Я замолчал. — Нас было пятеро друзей, — выговорилось с трудом, ком в горле, — юных друзей «Аполлона». Понимаешь, радость моя… — Я сбился, нечаянно обратившись к ней по-прежнему, когда мы любили друг друга.
— Почему ты замолчал?.. Родя, что с тобой?
— Я плачу.
Она дотронулась пальцами до моих глаз, мне не было стыдно. Как я жил без нее?.. Наконец выговорил:
— Вот с той ненависти все и началось, магический импульс передался мне, я искал смерти… Наша несчастная бабка… «Погребенные» — пародия на причастие не виноградом и хлебом, а смертью.
— Паоло подарил мне фотографию, они такие живые и страшные. А теперь совсем другие. Я включила свет, но не успела рассмотреть, спустилась к тебе…
— Да, мы сегодня затронули, разрушили центральный символ.
— Скажи, может, он всерьез все оставил Церкви?
— Может быть.
— А мы-то с Женечкой ничего не поняли!
— И он не успел поговорить со мной!
— Где он, Родя?
— Недосягаем. Она намекнула. В родовом имении есть дворянский пруд, черные ели и болотная топь, в которой погребен Евгений.
Мы вошли в дом, в «трапезную», остановились над нею.
— И тебя ждало это место?
— Тебя, радость моя. Я не беженец, а богатый наследник (если уничтожить завещание), обо мне есть кому побеспокоиться.
— Но как же…
— У нее была моя записка. Вот она. — Я поднял с пола и разорвал жалкий клочок бумаги. — К твоему приходу она оплакивала бы самоубийцу, и ты присоединилась бы к ней, и доктор объяснил бы, как по примеру великих поэтов я несколько дней носил при себе предсмертное письмо.
Наташа произнесла сурово:
— Напрасно она так понадеялась на мое простодушие.
— Напрасно. Ты слишком любишь жизнь.
— Слишком?
— Нет! Так, как надо.
Она сказала что-то тихо-тихо, а я не стал переспрашивать, потому что послышалось «я тебя люблю». Нет, не буду переспрашивать… А она вдруг говорит:
— Ты хочешь присоединить ее к Женечке?
— Нет!
— Что же делать? Никакой следователь в такую фантасмагорию не поверит.
— Разве что Порфирий Петрович… — Я с натугой усмехнулся. — Да со времен Достоевского много воды утекло.
— Пострадать хочешь?
— Ответить. Мне это в радость будет, честно. А там как Бог даст.
— Он тебя возлюбил и трижды спас.
— Да уж, я по самому краю ходил… Наташа, разумеется, я скажу, что сам переставил кружки.
— Нет уж! До конца, так до конца пойдем.
Мы устремились наверх. И с последним ужасом увидел я, как по фреске — из центра уничтоженной золотой чаши с пурпуром — расползаются глубокие трещины; они уже достигли черного растения и подбирались разрушить склеп, а три фигуры в разноцветно-тусклых одеждах почти распались на части — через тридцать лет наконец получили покой «Погребенные».