К вечеру караван остановился у нового колодца. Об этом я узнала по ржанию и реву животных. Я была голодна, и, что хуже, меня мучила жажда. Выпрыгнуть из вьюка я все-таки не решалась; это значило бы попасть на глаза и потерять надежду добраться хоть до какого-нибудь человеческого жилья. А я теперь была уже вполне проникнута сознанием, что крысы-победительницы распространялись по свету не иначе, как за человеком.
На мое счастье караван остановился на ночевку и некоторых животных, в том числе и мою лошадь, развьючили. Я не решалась было выходить из вьюка даже и ночью, так как услышала подвывание шакалов и гиен, но по звуку их голоса сообразила, что они опасаются приближаться к каравану. Поэтому я дождалась только полной темноты и, выбравшись из вьюка, отправилась на поиски. Один туземец не спал; он, вероятно, сторожил. Осторожно бродя между тюками, я жадно внюхивалась в воздух и, наконец, отыскала то, что было нужно: один из тюков одновременно мог доставить мне и пищу, и питье. Это был какой-то уродливый мешок из кожи животного, по-видимому, барана, внутри мешка налита была, несомненно, вода. Жажда была настолько велика, что я тотчас же принялась прогрызать мешок, что мне удалось весьма быстро. Лишь только я прогрызла маленькую дырочку, вода брызнула тонкой струей. Я жадно припала к этой струе и пила, не отрываясь, пока не почувствовала, что больше пить не могу. Вода была теплая, пахла кожей, но она мне показалась лучше самой чистой воды лесных ручьев. Напившись, я решила идти прочь искать убежища, так как есть я не могла: желудок был слишком переполнен водой. Но в качестве провизии, на случай, я выгрызла кусок кожи и потащила его с собой. Вода из мешка вылилась вся и быстро впиталась в песок.
С куском кожи, волочившимся за мной, я направилась к большому верблюжьему вьюку и, к радости своей увидела, что правая часть его состояла из какой-то плетеной корзины. Забравшись на нее, я отыскала доступное для себя отверстие и полезла внутрь. В корзине лежал какой-то домашний скарб. Меня это очень мало интересовало, потому я не запомнила ни одной вещи. Я протиснулась в нижний угол и устроилась там вместе с запасом своего провианта. Но он был даже лишним, тогда как соседом моим оказался небольшой мешок с каким-то пшеном. Под боком у меня, таким образом, было почти все необходимое для крысы: прутья для грызения, кожа и пшено для еды. Не было только самого важного… воды. Устроившись поудобнее, я собралась выспаться, но сон бежал от меня, уступая мыслям, точно дожидавшимся только времени, когда я подкреплю свои телесные силы.
Перед моими глазами вновь пробежал ряд недавних событий.
Нападение… разгром… хищные птицы… падаль… ужасный пир… — все это в той природе, которая в других случаях так удивительно прекрасна, так жизнерадостна. Радости жизни еще ярче выступают, если их противопоставлять ужасам, неизменно сопровождающим ее, словно это какая-то роковая необходимость. Мне стало чудиться, что и тут кроется таинственный закон, который я бы выразила словами: горе нужно для того, чтобы светлее была радость.
Минувшие события представились, наконец, еще в более простом объяснении: если уж неизбежна гибель кого-нибудь, то необходимы существа, которые скрыли бы следы этой гибели. Гиены, шакалы, грифы (птицы, пировавшие на верблюде), — все это послано судьбой подчищать следы преступления других. Гиены, шакалы насыщают при этом свой желудок. Копры, жуки-могильщики удаляют тоже с лица земли ненужное, но этим ненужным они питают своих детей-личинок.
Вспомнила я рысь в зверинце, мурлыкавшую во время еды, что ей необходим непременно свежий стол, и мне стало ясно, что в природе ко всякому существу даже еда приноровлена или, наоборот, различные существа сами приноравливаются к различной пище: кому свежая, кому отбросы. И всякий-то доволен своей долей и не ищет лучшего, полагая, что лучшее то, что ему судьбой положено.
И вдруг, как стрела, у меня пронеслась мысль: а, ведь, мы, крысы домовые, мы, собственно говоря, животные растительноядные и только возле человека изменили тому, что было положено нам природой. Да и не мы одни: свиньи, собаки и даже птица разная тоже возле человека изменяют понемногу свои привычки питаться только определенной пищей. И от мыслей о противоположностях, наблюдаемых в природе, я перешла к старым мыслям о том влиянии на природу, которого мало-помалу достиг человек. Эти думы о людях напомнили мне ряд моих друзей, а воспоминание о них повлекло за собой чудные грезы о прошлом: о Вере, о Нюте, о старике Петровиче, о Джуме и его хозяевах… Эти воспоминания, наконец, перешли в сон, и я заснула в своем странном убежище на спине верблюда так же мирно, как в былое время в углу за печкой или в войлоке походного ящика рядом с Джумой.
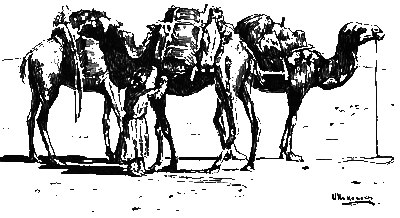
Трудно себе представить, что за шум поднялся поутру, когда нашли мешок прогрызенным и опорожненным.
Хозяин меха (так зовут упомянутый мешок из цельной шкуры барана) выходил из себя и грозил кулаками неведомому вору. Мне казалось, что он обвинял в этом кого-нибудь из верблюдов, так как тщательно рассматривал следы возле своего тюка. Правды он не узнал, и это, видимо, его очень огорчило. Видя все это сквозь прутья своей корзины, я все-таки не винила себя. Ведь, всякий на моем месте поступил бы не иначе. Вот она борьба за существование, о которой беседовали не раз мои два приятеля.
Где-то они? Где Джума? Где все вы, мои добрые друзья… Ваш Хруп и Узбой едет вновь в неведомые страны к неведомым людям.
Караван тронулся в путь, и корзина закачалась. Это очень неприятное обстоятельство, и я предпочла бы всякое другое путешествие, но у меня не было никакого выбора.
Просто не хочется описывать пути моего по этим местам, населенным незнакомыми людьми в халатах: до того места эти были похожи одно на другое. Правда, много было перемен на дороге и даже очень серьезных, но общий тон жизни моей был один и тот же.
Я прибыла с этим караваном в какое-то селение, где тоже был базар, были постройки, в которых жили люди, была вода, хотя и грязная, даже на улицах в канавах. Но вечный страх за свою жизнь и боязнь явиться на глаза людей заставляли меня прятаться, перебегая из одного убежища в другое, подчас не выбирая. Удрав из корзины при разгрузке каравана в селении, я попала сначала в базарную лавку, где прожила в некотором довольстве двое суток. Неожиданно для себя вновь очутилась на спине верблюда, когда хозяин лавки, забрав свой скарб, уехал к себе, увозя меня с собой.
Из селения большого я попала в селение малое. В нем я было устроилась и собиралась даже изучить язык этих людей, чтобы лучше понимать свое положение и как-нибудь узнать из их речей — где лежат страны с другими, более доверчивыми к крысам людьми. Но случилось так, что какая-то сердитая и сильная собака, отыскав меня в огороде, погналась за мной и загнала меня в чащу кустарников, в которых я потом проплутала дня три. Встретив, наконец, довольно обычные в этих местах караваны, я сторонкой поплелась за ним. На мое счастье что-то случилось с одним из вьюков и верблюда стали перевьючивать. Я этим воспользовалась и, забравшись во вьюк, на что у меня уже была сноровка, переехала с караваном в новое селение.
Там новые хлопоты, новые заботы и старое было только одно, но зато самое ужасное — постоянный трепет за свою жизнь.
Как я ни старалась, но, разумеется, не всегда могла избегнуть взоров людей, и вот тут мне приходилось плохо, так как в лицах людей я прочитывала одну только ненависть. И все-таки можно было бы примириться с жизнью и среди этих людей и в этих странах. Я даже видела многих родственниц, как рыжих, так и черных, но… я, Хруп, не мог выдержать такой жизни: что-то действовало на меня угнетающе в этой постоянной вражде с человеком. Эта вражда мешала мне производить свои наблюдения, нарушала мое спокойствие. Одних только пищи и питья было мало для радостей моей жизни. Почему? Не могу сказать. Может быть, потому, что я слишком много знала для обыкновенной крысы.