И вдруг вспомнились мне слова старого Али: «Коли стал мир чувяки скидывать, нипочем тому не помешать. Коли он потури скидывает, то и чувяки скинет беспременно. И много еще чего произойдет». Вон она — новая мода! Просто моча желтая, можно сказать, а господа офицеры дуют вовсю, потому — в новинку! Но только на сей раз и я с этого дела пенки сниму! А там будь что будет! Америка, рассудил я, никуда от меня не уйдет. Пачпорт тоже. Подхватился я — и в Прангу, в родное село.
— Отец, — говорю своему старику, — один раз ты меня родил на свет, роди во второй!
— Ты что, Коста, — удивился старый, — нешто может человек дважды на свет родиться?
— Может, — говорю. — И три раза может! Отдай ты мне мою долю от своего сада, я продам ее и сделаю то, что задумал.
И рассказываю ему, на какую я жилу набрел. Отец у меня прежде в лесной охране служил, уразумел что к чему и — царствие ему небесное! — спорить не стал. Завязал я в платок десять, золотых, купил патент, привез из Пловдива пива, бочонок льду, жаровню — мясо жарить, две тарелки, две кружки, а Вангелаки богомазу велел нарисовать святого Георгия на коне — в одной руке кружка с пеной через край, в другой — копье, а на копье котлета нацеплена, под картиной — подпись громадными буквами, черными по желтому нолю: «Пиво ледяное офицерское».
Народу слетелось — туча! Народ ведь как кинется — его не остановишь. Пиво — горечь одна. А им, дурачью, все равно! Некоторые интересовались, отчего оно офицерское.
А я говорю:
— Уж такое оно есть.
Фотограф увидал, как люди пиво мое лакают, поставил свой аппарат возле моего ларька и стал снимать всех любителей с кружкой в руке рядом со святым Георгием. Простых любителей он снимал с кружкой в руке, а самым ретивым на голову еще желтую каску напяливал, какие пожарники носят.
Попросил я Вангелаки подсобить мне: он котлеты жарит, продает, я пивом торгую, и уже к обеду выцедили мы все пиво до последней капли. Денег я напихал полный ящик! И говорю Вангелаки:
— Охота тебе была святых малевать? Не видишь разве, что теперь и на святых спрос поубавился? Давай лучше вместе торговать — ты будешь котлеты жарить, я пиво разливать.
— Давай! — говорит Вангелаки. — Все одно у нас в городе никто в иконах и картинах не смыслит. Коль я тебе подхожу в напарники — давай! Я ведь и фигуры лепить могу, так что котлеты наделаю — первый сорт!
Купили мы в Избегли буйволиную тушу, наготовили фаршу. У Вангелаки пальцы длинные, ловкие, котлетки он лепил аккуратненькие. Я десять бочек пива привез, и завертелась у нас такая торговля, что «Бакишу» впору мне завидовать. Пошло дело! Деньги повалили валом! К вечеру чуть не мешок их набирался, даже считать было лень.
— На, посчитай! — пихает мне, бывало, выручку Вангелаки. — А то я с ног валюсь.
— Считай ты! — отмахиваюсь я. — Я сам валюсь.
В конце концов решили так; один день он выручку считает, другой день — я.
Взыграла у меня душа от таких доходов, купил я жене шелковой материи на платье и велел сшить у самой дорогой портнихи, какая есть в городе. Жена показала подарок матери и похвасталась, кому шить отдаст. У тещи аж глаза на лоб полезли:
— Ты в своем уме иль нет? Чтоб жена какого-то лотошника платья портнихам шить отдавала? У муженька еле-еле на хлеб хватает, а ты форсить будешь, точно госпожа какая!
На другой день спрашиваю у жены, почему она новое платье не надела.
— Оно, — говорит, — не сшитое.
И рассказывает про то, что мать не разрешила шить его и какие при этом говорила слова.
— Скажи своей матери, чтобы завтра вечером спать не ложилась, а сидела и меня дожидалась!
На другой вечер ссыпал я выручку в мешок, не считая, мешок на плечо взвалил и домой. Жена с тещей сидят, дожидаются. Говорю жене:
— Постели скатерть.
Она постелила, я мешок вытряс, зазвенели монеты, покатились во все стороны, теща чуть умом не тронулась.
— Давай, — говорю, — тещенька, поработаем, денежки вместе посчитаем. Ты, — говорю, — шестилевовые монеты считай, Минка пятилевовые, а я бумажки складывать буду!
Старуха слова сказать не может. Три раза глаза терла — проверяла, не во сне ли такое привиделось, а потом взялась считать. Считали мы, считали, а как пересчитали все — сгреб я две пригоршни ассигнаций и бросил жене на колени:
— Держи, жена! Это, — говорю, — тебе, чтоб портнихе платить. А это — кидаю две пригоршни шестилевовых монет теще, — тебе, старуха, чтобы запомнила ты те времена, когда мир сбился с панталыку.
Ну, про Али я тоже не забыл. Взял его к себе в зазывалы, потому что это он мне глаза раскрыл, объяснил, что к чему, и от «Бакиша» спастись помог.
Али здорово зазывал, на совесть. Шея у него была кривая, чалма драная, но уж коли он брался за какое дело, то всю душу в него вкладывал. Только почему-то «ледяное» он выговорить не мог и кричал: «Пиво ильдяное! Ильдяное пиво-о!»
Перевод М. Михелевич.
СТРАХ
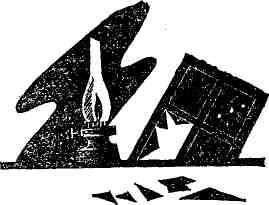
Как-то раз вызвал меня лесничий к себе, дверь поплотнее закрыл и говорит:
— Есть, Порязов, тебе одно секретное поручение: в Каракузе лесник, по всему видать, помер! Вот уж пятнадцать ден никто его в округе не видал, и в управе он тоже не показывался. Ты у нас старший объездчик, поезжай в Каракуз и лично проверь, жив он там или нет.
— Слушаюсь!
— Оружие захвати, патроны — и с богом! Район пограничный, население мусульманское, а сверх того слух идет, шайка Али Бекира опять объявилась, так что гляди в оба!
— Слушаюсь, господин лесничий!
В те времена «господин» говорили, а не «товарищ».
Наложил я в сумку провизии дня на три, вскочил на коня — и в путь. Ружья с собой не взял: ружье — его издали видать, в глаза лезет, а я наган зарядил — был у меня наган с барабаном на шесть патронов. Со ста двадцати шагов на дереве лист пробивал.
В Каракуз дорогой ехать семь часов, а я — напрямки, по тропкам, за пять проезжал, да еще успевал по сторонам глазеть, пить останавливался и прочее. Горы там высокие, лес дремучий — деревья толстенные, в три обхвата, а на скалах орлов полно — было на что поглядеть, но у меня лесник из головы не выходил — неужто его прикончили или что другое стряслось?
И всю дорогу, пока я взбирался верхом на кручу, не выходил он у меня из головы: что бы такое могло случиться? Хотя, по чести, с лесником всякое случиться может. Ведь он следит, чтоб порубки не было да потравы, а в таком деле всегда кто-нибудь может всадить пулю либо ножом пырнуть. За сколько-то лет перед тем случилось такое со средокским лесником. Он чьих-то коз застал на вырубке, снял с них колокольцы, а пастухам без колокольцев нельзя — они ведь по ним обмирают, по колокольцам этим. Вот и подстерегли лесника, огрели дубиной разок-другой, и нету человека. Из-за двух ржавых колокольцев!
На меня тоже Бурунсуз из Карамушицы и Салих Кривой ножи точили. Кривой мне потом сам признался.
«Кабы ты, — говорит, — бежать кинулся, я б тебя беспременно ножом проткнул, потому как я, — говорит, — с тридцати шагов сосновую доску могу пробить! Но ты, — говорит, — не струсил и тем жизнь свою спас».
Среди этакого народа лес стеречь — дело непростое, тем более у них за спиной был Али Бекир, родом болгарин из Драмских сел, но веры мусульманской. Он ходил через границу, угонял мулов с нашей стороны и сбывал на греческой. Вместе с ним еще трое орудовали. Акцизного из-за коня прикончили, а пастуха одного — за то, что отказался барашка им зажарить. С той поры у всех браконьеров и порубщиков Али Бекир не сходил с языка, с его именем вставали и спать ложились, его именем грозились и запугивали. Я, сказать по правде, не Али Бекира опасался, я о другом думал: в такие времена кого хочешь можно пристукнуть — хоть лесника, хоть полевого сторожа, — все спишут на Али Бекира.
Конь у меня был сильный — к полудню я уже добрался до Холодного ключа. Оттуда дорога петлями шла книзу — все вниз да вниз, где через кустарник и сливовые рощи, где по камням да скалам, и так до самого Каракуза.