Панджо, плотно прижавшись к Дзаку, тайно молил бога уберечь его старую жизнь вместе со старенькой лавкой, принайтовленной проводами к железным крюкам, вбитым в землю.
А лавка между тем, как пойманная птица, билась об железные крюки, тревожно звеня проводами.
Дзаку привстал, отчего подскочил и стульчик, на котором он сидел, и стал вслушиваться в стихию, чтобы выхватить из-за ее шума уже доносившийся до него голос Айзгануш.
Панджо, почувствовавший отсутствие только что сидевшего рядом с ним Дзаку, а между прилавком и собой — вертящийся стульчик, отчаянно закричал:
— Дзаку, не оставляй меня!
Но Дзаку в это время спустил с лавки правую ногу, а когда сбросил и левую, лавка качнулась и оттолкнула его по самые бедра в воду.
— Держись, Панджо! — выдохнул Дзаку и, оглянувшись на лавку, увидел, как она, скользя по поднявшейся воде, раскачивается на проводах. Потом ему даже померещилось онемевшее лицо трепальщика, но это было всего лишь плодом его воображения.
Медленно нащупывая устойчивую почву под ногами, тут же вымывавшуюся, Дзаку пошел на мелькание огонька. Огонек вспыхнет, погаснет. Дзаку шагнет, замрет и снова продолжает путь. И вот наконец он достиг развороченного двора сестер Мунич. Лишь настежь открытые ворота говорили о том, что двор когда-то был огорожен дощатым забором.
Низенький домик по лестничную площадку ушел в воду, а потому ступеней видно не было.
Дзаку ногой нашаривал под водой лестницу в дом, но, так и не найдя, постучал в окно, за которым бледно светилась керосиновая лампа.
— Айзгануш! Открой окно! Это я, Дзаку!
Но за окном лился лишь бледный свет лампы и слышался сиплый вздох женщины. Затем Дзаку услышал отчаянный плач уродца.
Ливень, обрушиваясь на Дзаку, стоявшего под стоком крыши, еще с большей силой готов был повергнуть его, но, к счастью, в окне он увидел Басю и заколотил еще сильней.
— Открой окно! — кричал он из последних сил, захлебываясь водой и ненавистью к глухим жильцам.
Бася невидяще взглянула на Дзаку и спросила:
— Не нашли?
— Кого? — удивился Дзаку.
Бася шумно заплакала и, содрогаясь плечами от смертельного озноба, проговорила:
— Во время грозы стояли с Цилей на площадке лестницы… Я держала ее за руку, но она вырвалась и выбежала за ворота… — Бася зарыдала и метнулась, в комнату, откуда долетал крик Габо, искавшего Айю…
Дзаку тут же отлепился от горем дышащего дома и, уйдя по бедра в воду, пошел вслепую вперед в надежде где-нибудь наткнуться на исчезнувшую Цилю.
Сорвавшаяся с северного склона вода в низину мчалась во всю прыть, толкая в спину и торопя Дзаку в сторону бульвара, за которым в зверином рыке вздымалось разгневанное море, вышибая мощными ударами валов пресную воду на прибрежные дворы.
Дойдя до водораздела и ухватившись там за ствол уцелевшего дерева, Дзаку обернулся назад и с тайной надеждой прислушался к шуму ливня, теперь уже огибавшего город и уходившего в открытое море, отчего тут же в разрывах туч забрезжила синева неба, подсвеченная сбоку солнечным светом.
Дзаку трижды перекрестился и выдохнул молитву:
— Господи, спаси нас, грешных! Дети твои!
И действительно, вскоре мингрельский бог Туташхиа сжалился над своими неразумными детьми и, видимо, переговорив с карачаевским, решил осветить мир светом своим.
Разом осветившийся город вновь засверкал обломками зеркал, внушая его жителям силу и власть всевышнего.
Оглядевшись по сторонам, Дзаку увидел, как мощно напиравшая сверху вода уже слабеет.
По широкому коридору улицы все еще продолжали плыть предметы домашнего обихода, обретшие вновь свою ценность. И люди, дотоле где-то прятавшиеся, высыпали в погоне за своими и чужими вещами.
Дзаку бросил взгляд в море, над которым тоже проливался свет небесный, и увидел лодкой раскачивавшуюся лавку Габо, а рядом с ней — целый выводок шапок. Затем за спиной у высоких кустов камфорного насаждения Дзаку услышал голос и самого Габо, стонавшего от нанесенного потопом ущерба.
— Дзаку, спаси мою лавку! Спаси мои шапки!
— Не скули, Габо! — сказал Дзаку и впервые за время потопа широко заулыбался, глядя на уплывающую вглубь моря лавку, а за ней шапочный выводок. — Дай телеграмму Шамону! Он встретит их на том берегу!
Габо тут же умолк, видимо, соображая, что ничего в мире не пропадает, и, тоже слабо осветившись улыбкой, слез с кустов и пошел к Дзаку.
— Мартали[7], Дзаку! Мартали!
Теперь они оба, обогнув половодьем ревущую улицу, пошли ее задами к площади, где изрядно поредело число лавок и духанов. И вот, ступив на крыльцо примыкавшего к площади дома, они увидели, как перевернутая навзничь лавка Панджо вместе со своим хозяином держится на плаву, вертясь вокруг прежнего места, удерживаемая одной струной проволоки.
Ослепленный страхом Панджо таращился рачьими глазами вокруг, не смея ни кричать, ни сопротивляться стихии, так удачно распорядившейся трепальщиком.
— Калимера, Панджо! — вдруг весело выкрикнул Дзаку сидящему, как в лодке, в лавке трепальщику. Но лавочка в это время развернулась спиной, и рачьи глаза перепуганного «лодочника» устремились в противоположную от Дзаку сторону.
— Непе![8] — снова закричал Дзаку, когда лавка развернула лицо своего владельца к Дзаку. Но Панджо, помелькав перед Дзаку, вновь развернулся спиной. — Слышишь, непе, затопили нас карачаевцы из-за своей кобылицы! Затопили безбожники!..
— Вай чкими цода! — застонал повернутый спиной Панджо, и от вернувшегося к нему ощущения жизни, от ее хрупкости Панджо заплакал, прикрыв натруженными руками лицо, заглянувшее в глаза смерти.
А где-то вдалеке, в глубине поверженного города, слышалась скорбная песня. Пел ее Андроник. Пел с такою силой скорби и одиночества, что всем слышавшим его сделалось не по себе, как от воя собаки на обезлюдевшей земле…
Дзаку медленно сошел с крыльца и, колотя себя в грудь открытой ладонью, пошел навстречу скорбному голосу…
Бабушара,
1986
ЦЕНА ОДНОГО УРОКА
Памяти Т. Расшивалиной
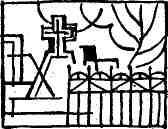
Сразу по окончании института, определившего мне в зыбком подклассе молодых литераторов профессию литературного работника, я со всех ног бросился штурмовать редакции журналов, начав с самых толстых и авторитетных. Однако пыл моих атак стал заметно угасать, когда выяснилось, что бастион приступом не взять, как не взять, впрочем, и легких башен заводских многотиражек, сотрудники коих насмерть удерживают свои позиции, некогда отвоеванные в жестоких боях.
Испытывая определенное тяготение к городу как к некоему огромному светящемуся шару, к которому очертя голову тянулось все мое поколение из окрестных деревень и окраин, я стал с некоторых пор подозревать в нем с подкожным страхом недавнего крестьянина хорошо скрытое коварство. А потому, стараясь уберечь свои крылья от возможных ожогов, дабы окончательно не утратить способность к полету, принялся осмотрительнее приглядываться к намеченным точкам соприкосновения с городом и, не найдя в них достаточной гарантии для своей безопасности, в отчаянии залег в своей комнате, чтобы заспать всякую надежду на обретение какой-либо литературной работы. Но, к моему удивлению, уже через день мне позвонили с Чистопрудного бульвара и пригласили на переговоры.
Звонивший Пашка Кобяков, мой давний приятель по рыбалке на Клязьме, и некто второй, в чьих силах было существенно изменить мою экономическую устойчивость, в один голос звали к себе, намекая на то, что характер предлагаемой работы требует «конфиденциальности». И хотя это труднопроизносимое слово резало слух, я спешно стал собираться.
Выйдя через несколько минут на Садовое, близ которого жил я тогда в большой коммунальной квартире, где ее жильцы в постоянных яростных ссорах жареную треску с винегретом круто приправляли желчью беспощадных ироний, я направился к остановке трамвая и вскоре стоял у подъезда мрачноватого дома с приземистым входом со двора, на детских крохотных площадках которого весело ржали словоохотливые дети, терзающие бесконечными вопросами сонных мам и бабушек.