Миновав закрытые ворота, неспешно пошел вдоль тына. Настроение его все портилось и портилось, и вдруг в одном месте он углядел, что один из сучков развесистой яблони перекинулся через тын. Можно подпрыгнуть и ухватиться за этот спасительный сук, а дальше — как Бог даст.
И вот Первушка (благо высокого роста) очутился на дереве. Но сучок с треском надломился и коснулся зеленой листвой земли. Первушка замер: если кто-то окажется в саду, то он непременно услышит этот громкий треск. Но пока все было тихо. Спустившись на землю, Первушка прислонился к яблоне и невольно отметил, как прекрасно в этом «Васенкином» саду. Всё в цветущей белой майской кипени. А какой упоительный воздух! Не надышишься. Именно в такую чудную пору он впервые повстречался здесь с Васёнкой, именно в этом весеннем, пышно-цветном саду он поцеловал стрелецкую дочь, именно здесь познал такое восторженное, божественное чувство, как любовь.
Неподалеку, ближе к терему, раздался хлесткий звук топора. Уж не Филатка ли?
Осмотрительно пошел на звук, и, когда выглянул из вишняка, в самом деле, увидел Филатку, который колол у повети березовые чурки. Были видны Первушке и тынные ворота, и сторожка, но подле них никого не оказалось. Видимо, привратник куда-то отлучился, и все же надо быть начеку.
Первушка, крадучись, перебрался поближе к дворовому, тихо его окликнул. Филатка, увидев печника, даже топор из рук выронил.
— Дык…Аль на ковре-самолете?
— Ага. Где Васёнка?
— Дык, в тереме.
— А привратник?
— Сидорка-то?.. Дык, в терем по какой-то надобности зашел, но сейчас выйдет. Давай-ка в сад, паря, проворь.
— Идем вместе. Потолковать надо.
На просьбу выманить Васёнку в сад, Филатка безнадежно махнул рукой.
— Мудрено, паря. Васёнка в светелке сидит, а мимо Осиповны не прошмыгнешь.
Первушка помрачнел: тщетными оказались все его потуги. Он так и не увидит своей Васёнки. Но это же сущая беда. Надо что-то делать.
— Пойду я, паря.
— Погодь, Филатка. Из сторожки крыльцо видно?
— Само собой.
— Отвлеки Сидорку, а я — в терем.
— Дык… А хозяйка?
— Как Бог даст. Не могу я уйти, не взглянув на Васёнку.
— Ну, ты даешь, паря.
— Не стой истуканом. Иди к Сидорке.
В терем удалось проскочить незамеченным, но уже в сенях Первушка столкнулся со стряпухой Матреной. Та охнула, закрестилась, как будто увидела перед собой привидение, а затем с испуганным криком засеменила к Серафиме Осиповне.
Хозяйка пришла замешательство.
— Да как же тебя, нечестивца, сюда пропустили?.. Матрена, а ну покличь Сидорку! Прикажу выпороть, недоумка.
— На Сидорке вины нет, Серафима Осиповна. Я через тын перемахнул.
— Как это через тын? — захлопала глазами Серафима. — Да такого быть не может.
— Может… Ты уж не серчай, Серафима Осиповна. Дозволь на Васёнку глянуть.
Хозяйка села на лавку, чистое, свежее лицо её вспыхнуло от возмущения.
— Нет, ты погляди, Матрена, на этого нечестивца. Каков нахал! Его прогнали в дверь, он лезет в окно. А ну прочь из моего дома!
— Хоть убивай, хоть режь на куски, Серафима Осиповна, но, не повидав Васёнки, из терема не уйду!
У Серафимы лицо вытянулось, а Первушка, никогда и не перед кем не падавший на колени, на сей раз пал.
— Дозволь, Серафима Осиповна. Христом Богом прошу!
Серафима, как глянула в умоляющие глаза Первушки, так и обмякла, ибо нрав ее был не такой уж и бессердечный, до замужества — веселый и добрый, и лишь после того, как ее «государем» стал суровый и не в меру строгий Аким, она год за годом превращалась в более степенную и взыскательную хозяйку. Серафима давно уже поняла (особенно после дерзкого похода Васёнки в Коровники), что дочь не на шутку влюбилась в печника, и что ее чувство весьма глубокое. Втихомолку жалела Васёнку, но свою жалость к ней никогда не выказывала, опасаясь жесткого нрава супруга.
— Жить не могу без Васёнки. Люба она мне. Допусти! — продолжал умолять Первушка.
Тяжело вздохнула Серафима, а затем, уже без всякого возмущения, вымолвила:
— Да как же я тебя допущу, голубок? Чай, ведаешь супруга моего. Встань.
У Первушки полегчало на сердце. Никак, оттаяла Серафима Осиповна, коль голубком назвала.
— Мне ль не ведать? Аким Поликарпыч ныне с ляхами ушел биться.
— Вот-вот, — заворчала мамка. — Ворога ушел бить, а энтот по девкам шастает, срамник.
— Погоди, Матрена. Не сбивай меня… Супруг-то, сказываю, по головке не погладит. Он у меня скор на расправу.
— Не изведает, Серафима Осиповна.
— Еще как изведает, голубок. На вратах-то шибко зловредный страж стоит.
— А я как сюда через тын заявился, так через тын и выйду. Правда, сучок сломал.
— Не велика поруха… Ох, не ведаю, что с тобой и делать, голубок, ох, не ведаю.
— Не узнаю тебя, Серафима. Гони экого срамника.
— Ступай к себе, Матрена. Ступай!
Матрена недовольно покачала головой и, опираясь на клюку, пошла к двери.
— Упрям же ты, голубок, в семи ступах не утолчешь. Знать, крепко тебе поглянулась моя дочка.
— Еще как поглянулась. Белый свет без нее не мил.
Вновь тяжело вздохнула Серафима Осиповна, и, наконец, смилостивилась:
— Возьму грех на душу… Ступай в светелку, но всего на чуток.
Васенка, увидев Первушку, побледнела, медленно поднялась из-за прялки и едва не упала в беспамятстве. Желанный привиделся!
— Васёнка! Родная моя!
— Ты?!.. Господи, как же я ждала тебя!.. Любый ты мой!..
Серафима Осиповна, застыв на порожке, утирала тихие, сердобольные слезы.
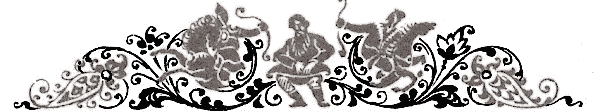
Глава 10
БЫТЬ НОВОМУ ОПОЛЧЕНИЮ!
Ярославские грамоты и в самом деле пришлись по нраву Кузьме Минину. Ярославль — один из самых древних и именитых городов, почитай, сердце Руси. Поддержка такого влиятельного города весьма важна для нижегородского Земского ополчения.
Кузьму Захаровича Минина-Сухорукова избрали Земским старостой 1 сентября 1611 года.
Но что же толкнуло его взяться за сбор ополчения? Позднее монахи записали со слов Кузьмы, что он в конце лета не раз уходил из избы в сад и проводил ночь в летней постройке. Там его трижды посетил один и тот же сон, в коем привиделся ему святой Сергий, сказавший ему: разбуди спящих! А затем виделось Кузьме, будто идет он со многими ратными людьми на очищение Московского государства. Мысль о подвиге во имя спасения отечества давно волновала Минина, но он не решался никому открыться, а, посему пробуждаясь ото сна, он каждый раз оказывался во власти безотчетного страха. «За свое ли дело берешься?» — спрашивал себя Минин. Сомнения осаждали его со всех сторон, ибо он отдавал себе отчет в том, что он принадлежал не к власть имущим, а к черным тяглым людям.
Кузьма вспоминал, что при пробуждении его било как при лихоманке, он всем существом своим ощущал непомерную тяжесть. «Болезнуя чревом», Кузьма едва поднимался с постели, но среди тяжких терзаний рождалась вера, что сама судьба призвала его совершить подвиг во имя Родины. Судьба и Бог. В его голове вновь и вновь звучали слова, как бы услышанные им сквозь сон: «Если старейшие (дворяне и воеводы) не возьмутся за дело, то его возьмут на себя юные (молодые тяглые люди), и тогда начинание их во благо обратится и в доброе совершение придет».
Избрание в Земские старосты Кузьма Захарыч воспринял как зов судьбы. Но поначалу пришлось ему туго, ибо на его плечи свалились сборы казенные, сборы таможенные, сборы питейные… Деньги шли на мирские нужды, на оплату разных выборных должностей по земскому управлению, на выборы приходских священников с причтом.
С введением же воеводства на земское управление пала новая тяжкая повинность — кормление воевод и приказных людей, дьяков и подьячих. Сей расход весьма истощал земскую казну. Минину пришлось завести расходную книгу, в которую он записывал все, на что тратились мирские деньги. Воеводский двор был прожорлив, сюда надо было носить мясо, рыбу, пироги, свечи, бумагу, чернила… В праздники или в именины Земский староста должен поздравлять воеводу и приносить подарки, калачи и деньги «в бумажке», и не только воеводе, но и его жене, детям, приказным людям и даже юродивому, проживавшему на воеводском дворе.