Надей был доволен обоими воеводами. И тот и другой горячо радели за Московское царство. Вот и ныне Федор Волынский продолжает рассылать грамоты. Одну из них, по совету Светешникова, послана Земскому старосте Нижнего Новгорода Кузьме Минину.
— Надежный ли человек? Наш-то Земский староста Василий Лыткин в шатости запримечен. К царику с дарами наведывался.
— За Кузьму Минина, как за себя ручаюсь. Ляхов терпеть не может, и народ его почитает.
Пока Надей находился в Новгороде, то несколько раз встретился с Мининым. Поглянулся ему этот степенный, широколобый мужик. Его живой ум, здравомыслие, умение оценить ту или иную ситуацию, вызывали уважение. А главное, он всем сердцем переживал беды, напустившиеся на Русь.
— На душе не будет покоя, покуда враг топчет и поганит Русскую землю. Надо всем миром подняться, дабы очистить Москву от скверны, — горячо произнес Минин.
— Норовят некоторые воеводы высвободить Москву, но пока это им не удается. Ваш Алябьев потянет на сей подвиг? Немало о нем доброго наслышан.
Минин отозвался не вдруг. Провел крепкой, широкой ладонью по густой русой бороде, а затем обстоятельно высказал:
— Андрея Семеныча я не первый год ведаю. Вкупе с ним ходил под Балахну и Муром, а допрежь в осаде в Нижнем сидели, когда войско тушинцев под началом князя Семена Вяземского помыслило городом нашим овладеть. Нижегородцы не только выстояли, но и сделали вылазку, поразили тушинцев, князя же Вяземского захватили в плен. В живых его не оставили, казнили принародно. Затем пошли с Алябьевым на Балахну. Там великая замятня затеялась. Одни оставались верными царю Шуйскому, другие вознамерились царю Дмитрию крест целовать. Усобье привело к тому, что возобладало мненье сторонников Самозванца. Вот и пристало бранью захватить Балахну. Муром же воевать не довелось. Горожане сами позвали к себе Алябьева.
— Верят в него, Кузьма Захарыч? Пойдет за ним народ на Москву?
На сей раз Минин ответил без раздумий:
— Твердости Алябьеву недостает, да и широтой мышления не блещет. На общерусский же подвиг достойный муж надобен.
— Совсем недавно был на Руси достойный муж. Михаил Васильич Скопин-Шуйский. Жаль, загубили его на Москве завистливые бояре.
— Да бояре ли, Надей Епифаныч? — в упор глянул на купца Минин, и этот взгляд был настолько острым и пронизывающим, что Надею ничего не оставалось, как высказать более весомую догадку.
— Тут, мнится мне, без Василия Шуйского не обошлось. Куда уж завистлив!
— Не обошлось, — кивнул Минин. — Завистливый — злее волка голодного.
— Слышал я, Кузьма Захарыч, что ты на паперти храма народ на борьбу с ляхами призывал?
— Мочи нет терпеть, Надей Епифаныч. Нагляделся я в ратных походах, какого зла поляки и тушинцы натворили. Кровь вскипает в жилах! Не могу боле молчать.
— Откликается народ?
— По-всякому, Надей Епифаныч. Каков наш народ на всякие новины, ты и сам ведаешь. Одни — загривки чешут, другие — мимо ушей пропускают, третьи — близко к сердцу принимают. Вот на последних — вся надёжа. Оселок! Такие хоть сейчас готовы стать в ряды ополченцев, их увещевать не надо, а дабы других всколыхнуть, нужно не единожды высказаться.
Минин некоторое время помолчал, как бы собираясь с мыслями. Светло-карие глаза его под изломанными, кустистыми бровями были явно чем-то озабочены.
— Ну, если Бог даст, соберем мы земское ополчение, а вот кто будет в челе рати, коя на Москву пойдет, покуда не вижу. Тяжко ныне доброго полководца сыскать. Нужен такой человек, в коего бы вся Русь уверовала.
Тут и Светешников призадумался. Долго щипал перстами бороду, а затем произнес:
— Как-то довелось мне встретиться на Москве с князем Дмитрием Пожарским. Лет тридцати, мудр, в шатости не замечен. Ни к первому, ни ко второму Самозванцу на службу не побежал. Приверженец истинных русских государей. В ратных делах отличился. Разбил ляхов под Коломной и Зарайском, собирал силы для ополчения Прокофия Ляпунова. Сей князь зело предан отечеству.
— Самую малость и я о нем слышал. Запомню твои слова, Надей Епифаныч. Но кому быть воеводой, коль доведется собрать ополчение, решать народу. Тяжкое это дело. Семь раз примерь, единожды отрежь…
Крепко запомнился Светешникову степенный и башковитый Кузьма Минин. Любопытно, дошли ли до него грамоты, испущенные из Ярославля? Сильные, страстные призывы в оных грамотах. Добро, если они попадут в руки нижегородского старосты. Глядишь, горячее слово ярославцев заронит в души нижегородцев еще большую ненависть к иноверцам и тушинцам. Дай-то Бог! Русь стояла, и будет стоять на православии и любви к своему отечеству.
А вот свои церковные дела пока пришлось оставить: в смутные годы не до возведения храмов. Как-то вспомнил Первушку. Чем ныне занимается этот даровитый подмастерье? Когда уходил в Сибирь, советовал ему печи ставить, дабы руки от любимого изделья не отвыкали. Ставит ли?
Михеич поведал:
— Ставил, но недолго. Напасти на Первушку навалились. Допрежь чьи-то лихие люди его изрядно побили, опосля же, когда пришлось от ляхов отбиваться, Первушку стрелой уязвили. Едва Богу душу не отдал. Ныне, кажись, оклемался.
— Выходит, в избе не отсиживался, когда ляхи припожаловали?
— Это Первушка-то? Это он с виду тихий, а из нутра зело горячий. Пока ляхи в городе буйствовали, наш подмастерье с дядей своим Анисимом народ к возмущению призывал. Лихой парень. В сечах был замечен.
— Молодцом, — одобрительно произнес Светешников. — Такие люди, мыслю, еще зело нам понадобятся.
— Храм возводить?
— И не только храм, Михеич, не только…
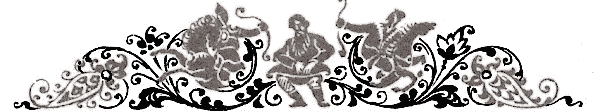
Глава 9
ВЛЮБЛЕННОЕ СЕРДЦЕ
Шли дни, недели, месяцы, а Первушка то и дело поминал нежданный приход в избу Васёнки. С того дня он пошел на поправку.
Анисим диву дивился:
— Прости, сыновец, но я уж и не чаял увидеть тебя во здравии. Помолись святому Пантейлеймону-исцелителю.
— Не святому надо молиться, а красной девице, кою, мнится, сам Господь послал. Вот что любовь творит! — молвил Евстафий.
— Истину речешь, отче, — кивнул Первушка. — Васёнка меня подняла.
Любовь к стрелецкой дочери вспыхнула с новой силой. Теперь никому и доказывать не надо, что лучшей суженой ему на всем белом свете не сыскать. Господи, какая же у нее чудесная душа! И какая неустрашимая! Ни отца, ни матери не испугалась и кинулась через весь город в заречную слободу. Ох, Васёнка, Васёнка. Как же он, Первушка, рвется к тебе, как хочет увидеть твои дивные, ласковые глаза… Но теперь и вовсе не увидишь. Все тот же дворовый Филатка при встрече кисло поведал:
— Ныне с Васёнки глаз не спущают. Из калитки боле не выпорхнет. Отошла коту масленица.
— Аль засовы сменили?
— Кабы, засовы… Меня от врат устранили. Аким Поликарпыч чего-то заподозрил. Я теперь всякую черную работу по двору исполняю, а к вратам нового холопа Сидорку приставили. Даже сторожку ему срубил. Бдит!
— Так и стоит у ворот? От докуки умрешь.
— Не умрешь. К Акиму то и дело приказные люди из Воеводской избы наведываются. Сам Волынский как-то припожаловал. Все какие-то дела у воеводы с ратным головой.
Первушка уже слышал, что Аким ныне в ратных головах ходит, но тому не порадовался: теперь и вовсе ко двору Лагуна не подступишься. Потерял, было, всякую надежду, но она затеплилась, когда изведал, что Лагун во главе ополченцев уходит под Москву на помощь Ляпунову.
На другой же день Первушка подался к заветному двору. Шел и мучительно раздумывал, как ему добраться до Васёнки. Новый привратник наверняка его в дом не пропустит, о том даже и грезить не стоит. Тогда зачем он идет? Разум подсказывал: ступай вспять Первушка, никчемна твоя затея: петушиным гребнем, волосы не расчешешь; сердце же настойчиво и упрямо вещало: надо идти, идти!..
А вот и тын. Крепкий, высокий. Не двор, а крепостица, «осадный двор», не зря его ляхи когда-то приглядели, не зря его и целым оставили, уповая на новое взятие Ярославля.