Зимние каникулы
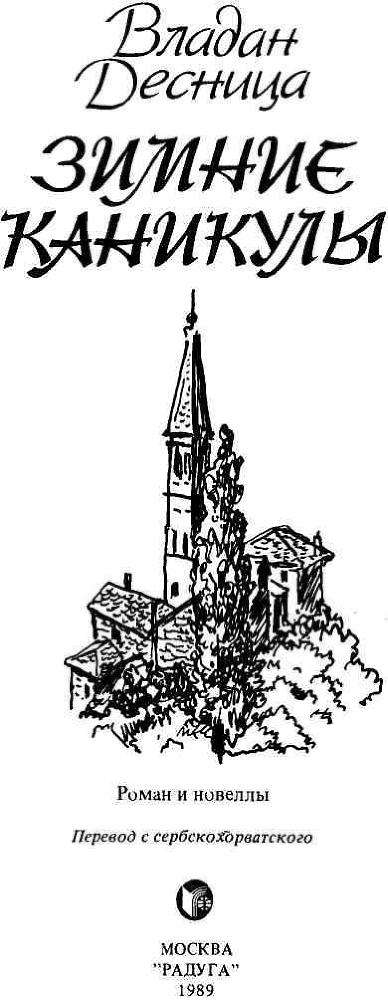
ОТ РЕДАКЦИИ
Есть книги несправедливо забытые. Почти сорок лет прошло после выхода в свет в 1950 г. первого романа Владана Десницы (1905—1967) «Зимние каникулы», более тридцати лет — после опубликования в 1957 г. его романа «Вёсны Ивана Галеба». А ведь недаром в Югославии творчество этого художника оценивают не менее высоко, чем творчество лауреата Нобелевской премии Иво Андрича.
Современному читателю, привыкшему к обостренному драматизму действия, к усложненной манере повествования, проза В. Десницы может показаться чересчур традиционной. Да и сам писатель неоднократно подчеркивал приверженность свою критическому реализму прошлого столетия. Безусловно, в его творениях (обращенных в основном к межвоенному периоду 1918—1941 гг.) ясно прослеживаются социальная направленность, стремление к опосредованному выявлению мыслей и чувств персонажей через особенности их речи и поведения, интерес к предметному миру. Однако, раскрывая, дисгармонию царящих в обществе отношений, В. Десница исследует проблемы, окрашенные приметами уже нашего, XX века: это и беззастенчивый дух наживы («Бента-ящер»), и ситуация, в которой честь и совесть становятся предметом купли-продажи («Глаз», «Жизненная стезя Яндрии Кутлачи»), это и гипертрофированный страх перед общественным мнением («Два претендента»), и одинокая старость, когда рвутся связи с окружающей действительностью («Прощание»).
Интересно представлена у В. Десницы проблема город — село. Большинство горожан в его произведениях — итальянцы или представители итальянизированных слоев, в то время как сельская беднота — сербы и хорваты. Таким образом, традиционный социальный антагонизм усугубляется за счет национальных противоречий, не потерявших своей остроты и ныне, в конце XX века.
И, тем не менее, все творчество В. Десницы подчинено законам гармонии. В критические моменты социальные и национальные различия между персонажами отступают на второй план, и в людях просыпаются порыв к духовности, глубокое чувство родства и сопереживания. Автор не уверен, что знает путь к такой гармонии, но вплотную подводит читателя к мысли о настоятельной необходимости ее поисков.
Выходит в свет первый сборник прозы В. Десницы. Может быть, в недалеком будущем мы увидим и более полное собрание сочинений югославского писателя.
НОВЕЛЛЫ

ЖИЗНЕННАЯ СТЕЗЯ ЯНДРИИ КУТЛАЧИ
В одном из распадков, встречающихся в неоглядных синих массивах далматинских гор, словно осело в яму, чтобы хоть как-то укрыться от ветров, беспрепятственно выметающих почти обнаженное плоскогорье, село Клисовцы. В эту впадину дожди намыли тонкий слой порошкообразной земли, а кое-что сами люди добыли из-под камня: где киркой дробили серую каменистую кору, напоминавшую покров лавы, где просто снимали мелкий сланцевый щебень и отыскивали лоскутки плодоносной красной земли, маслянистой на ощупь и податливой на взгляд. На ней растет миндаль, виноград, при нужде и ячмень, но только не трава. Местами попадаются дикая вишня, твердый, узловатый граб, цепкий вяз. В заповедных уголках, обнесенных неровной изгородью из колючего сухого кустарника, немало корявого, выродившегося дуба, вяза, но тот, кому эти деревья знакомы в других краях, вероятно, даже с близкого расстояния вряд ли узнал бы их: иссеченные, изогнутые ветрами и нещадно вырубаемые топорами заготовителей дров, они растут бесформенными, искореженными, стволы их напоминают выжатое полотенце, искривленные, с болезненными наплывами на теле. Из-за привычки обрубать деревья в трех-четырех метрах от земли — «корнать», как называют эту операцию укорачивания, — на вершине дерева образуется уродливый нарост, нечто вроде головы, из которой каждый год лезут в стороны, подобно лучам маленького темного солнца, молодые ростки, воплощение прирожденной стойкости и неуемной решимости выбиться на свет божий. В сумрак такое изуродованное дерево кажется призраком, особенно когда его гнет и раскачивает ветер, рождая в его чахлой кроне шум и скрип; тогда дерево напоминает опьяневшего, раздосадованного великана, качающего головой и постанывающего от зубной боли.
Как ни странно, на дне этого распадка нет воды: сквозь пористое каменное основание она протекала как сквозь решето. И в то же время высоко на горе, в нескольких километрах от села, есть небольшой чистый источник. Хмурым зимним утром, как и летом под горячим солнцем, тянется к источнику цепочка женщин, согнувшихся под тяжестью бочонков, навьюченные ишаки. Этот многотрудный путь к воде — неминучая, почти обрядовая часть каждодневной жизни — отнимает у женщины полдня.
Треть села занимают Кутлачи. Во время, о котором идет речь, в шестидесятые годы прошлого века, в их роду еще жило предание, что пришли они сюда несколько поколений назад с гор, откуда-то со стыка границ Лики, Боснии и Далмации, спускаясь по распадку, который был одним из главных путей многовековой миграции из глубины страны в сторону моря. Это переселение происходило волнами издавна — люди бежали от турок, однако продолжалось оно и потом, после турок, подобно медленному постоянному отливу, стекая вниз по склонам, как тонкая струйка свежей красной крови. Таким образом, с гор пришли не только Кутлачи, но и основная масса населения этих мест. Как в иных краях люди с понятной гордостью говорят о родной земле, о древности своего очага, так пришельцы здесь хвастают своим переселением, словно оправдывая этим свою теперешнюю бедность и извиняясь, что вроде бы тут они осели временно, по воле случая, из-за непредвиденной задержки в пути. В течение столетий перемещались, спускались с гор людские волны по этому каналу, теснимые завоевателями или гонимые невесть какими надеждами на лучшую жизнь. И оседали здесь, среди этого камня, не обретя доли счастливей той, что оставили в своем прежнем доме; селились с оглядкой, не дойдя до моря, которое, может быть, в какой-то мере и было тем, что их неясно влекло сюда, однако в последний момент испугало чем-то неведомым и чуждым в себе, отринуло, и они отпрянули, словно размышляя, не вернуться ли в покинутые ими места. Но при таких переселениях пути назад не бывает. Судя по всему, глухие и слепые к запоздалому раскаянию люди с большим трудом отказываются от задуманного, меняют первоначальные планы, можно сказать, какой-то коллективный стыд за содеянное не позволяет им вернуться в горы изнуренными, разуверившимися. Пребывая в недоумении и нерешительности перед морем, которое сманило их, а потом обескуражило и разочаровало, когда возврата уже не было, возврата, о котором было тяжело даже думать, который был невозможен просто в силу реальных условий, люди оставались здесь по крайней мере потому, что схожесть местности и условий жизни, один язык, такой же примитивный уклад делали этот край более близким и родным.
Мият Кутлача, старший из мужчин племени Кутлачей, человек добродушный и спокойный, скоро умер от воспаления легких, от «прободения», которое нещадно косит пришлых горцев, и валит их тем проще, чем сильнее они и крепче. Мият возвращался с праздника от побратима. Разгоряченный спиртным, прилег на лужайке у дороги и заснул. На третий день его похоронили. Вдова осталась с двумя сыновьями: Петаром, довольно рослым пареньком, и тщедушным Яндрией. Трое детей, родившихся после Петара, умерли, так что младший Яндрия едва запомнил отца. Было у них три клочка земли, расчищенной на каменистом склоне, домишко, крытый сланцевыми плитками, как у всех в Клисовцах, да десятка два голов мелкого скота.
Петар после смерти отца быстро взялся за ум: стал управляться с хозяйством, к Яндрии относился с отцовской твердостью. Был это молчаливый, степенный крестьянин, настоящий земледелец. Он никогда не помышлял о других краях, об иной жизни. Довольствовался тем, что один день был похож на другой, а год нынешний на год предыдущий. Чередование, в общем-то регулярное, года с достатком и голодного, лютых зим и дождливых весен с летней сушью и осенними благодатями, которые наступали в точном соответствии с календарем века, он воспринимал почти как некую предопределенность, нечто ожидаемое и наперед известное, и сменяемость времен года целиком удовлетворяла потребность в переменах. Крупных, значительных перемен его фантазия не порождала, а душа не желала.