Разговор оборвался на полуслове; в сенях послышались шаги.
В избу вошла Настя с четвертной бутылью спирта в руках, следом за нею Ермоха занес целую баранью тушу. По встревоженному виду Платоновны Настя догадалась, что разговор шел про нее, поняла, что матери не нравится поступок сына, и от стыда была готова провалиться сквозь землю. Хорошо, что в это время заговорил Ермоха, выручил вывел из неловкого положения.
— Принимай, Платоновна, продухту, — гудел старик, укладывая барана на скамью. — Настасья Федоровна, помогай, печь растапливай, где у вас топор? Изрубить надо мясо-то, а там у меня ишо сало курдючное фунтов пять лежит в санях, сейчас занесу. Варите, жарьте на двенадцать персонтий. Гульнем как следует, проводим нашего казака не хуже других.
Проводы казаков, как всегда, знаменовались в селе развеселыми гулянками. В компании, где гуляли Ушаковы, из восьми хозяйств набралось более двадцати человек. Для начала собрались в просторном, пятистенном доме Сафрона Анциферова. От Сафрона вся компания с песнями отправилась к Усачеву, от Усачева — к Игнату Козырю, от Козыря — к Платоновне.
Баранина и спирт, привезенные Ермохой, пригодились, Ермоха, впервые за многие годы гуляющий наравне с другими, то и дело запевал «Ласточку». Он успел уже перезнакомиться со всеми, приобрел себе новых друзей. К вечеру, когда веселая компания завалилась к Демиду Голобокову, гулеваны так понабрались, что еле держались на ногах, от пьяных голосов их гудела изба. Ермоха, сидя в обнимку с Сафроном, заплетающимся языком молол ему всякий вздор.
— Ишо и на свадьбе гульнем у Егора.
— Угу, — мотал головой Сафрон.
— Во-он она, невеста-то Егоркова, рядом с ним сидит, — с пьяной откровенностью хрипел Ермоха в заволосатевшее ухо Сафрона. — Отберем ее у Сеньки — и никаких гвоздей.
Опьяневший Сафрон, услыхав про гвозди, по-своему понял Ермоху.
— Да я же, сват, сам знаю холодную ковку, веди мне любого дикаря, в момент подкую.
В это время сидевший рядом Игнат Козырь запел:
Сафрон вскинул косматой головой, подхватил басом:
Егор ни на минуту не отходил от Насти, утешал ее, зная, как тяжело переживает она предстоящую разлуку. С тяжелым сердцем смотрела на них Платоновна, из головы ее не выходил разговор с Егором о его несуразной любви к замужней женщине.
«Вуем ты взяла, молодуха, — думала она, глаз не сводя с Насти, — будь бы ты девушка или хотя бы вдова, лучше бы и не надо. Ну, а так уж не-ет, не подойдет».
И утешала себя надеждой, что все это произошло по молодости, по глупости. А пока служит Егор, повзрослеет, глядишь, образумится.
На следующий день, как ни старался атаман пораньше выпроводить служивых, это ему не удалось: прощанье казаков с родными — с обычными в этих случаях причитаниями, благословением и выпив кой — затянулось. Солнце подходило к полудню, когда по улицам села двинулись наконец толпы провожающих и среди них — казаки с оседланными конями в поводу.
Егор шел, окруженный толпой соседей и родственников. Гнедка его вел в поводу Ермоха. Правой рукой Егор прижимал к себе Настю, левой поддерживал плачущую мать, с другой стороны Платоновну вел под руку Михаил. Кто-то из них запел:
И все дружно подхватили:
На окраине, у старой березы, народу собралось, как на ярмарке. Разношерстная толпа эта все прибывала, густела. Со всего села собрались сюда и стар и млад. Тут и новобранцы в форменных полушубках, при шашках, и пожилые казаки, женщины, старики, молодежь, ребятишки, тут же в толпе и кони служивых. Все сбилось в кучу, перемешалось, гудит немолкнущий людской говор, пьяные выкрики, плач и причитания женщин, песни, переливчатые трели гармошки — все это слилось в один сплошной хаос звуков, из которого, как всплески воды во взволнованной непогодой реке, вырываются отдельные фразы, обрывки песен.
— Кум Сафрон?
— Ванюша-а, кровинушка моя-а!..
— Господа старики!
— Дай мне сказать!
— Пятого провожаю, это как?
— Я и говорю ему: служи, Петька, служи, сукин сын, как мы служили, верой и правдой.
Среди толпы вертелся верхом на коне поселковый атаман Тимоха Кривой. По случаю провода казаков атаман в казачьем полушубке, в папахе с кокардой и при шашке.
— Воспода, внимание! — осипшим от пьянки и крика голосом хрипел атаман, размахивая зажатой в руке нагайкой. — Кончайте скорее за ради господа бога. Дядя Сафрон, выезжай хоть ты для начала со своим гвардейцем. Давайте, ребятушки, давайте! Платоновна, ну што ты, ей-богу, ведь не на каторгу мы их посылаем, все служили. Демид Прокопыч, давай пристраивайся вон за Сафроном. Это што же за беда такая, надо бы уже в станице быть подобру-то, а мы все ишо около березы канителимся. Сроду так не бывало, истинный бог.
Наконец вереница подвод с казаками и провожатыми тронулась. Почти все служивые ехали до станицы вместе с родными в санях и кошевках, оседланные кони их бежали рядом, привязанные к оглоблям. Егор, простившись наконец с матерью, с братом, с Ермохой и придерживая рукой шашку, кинулся догонять свою подводу, где сидела Настя, решившая проводить его до станицы. Припозднившись на прощании с родными, казаки заторопились, гнали лошадей, стараясь наверстать упущенное. Обгоняя один другого, цепляясь санями, с шумом, гамом, с веселой руганью устремились вперед.
— Гони-и-и!
— Давай, дава-а-ай!
— Куда тебя… черт несет?
— А ну, прибавь!
— Дай ходу-у-у!
Егор, стоя на одном колене, левой рукой держался за плечо Насти, правой, сорвав с головы папаху, долго махал ею, прощаясь с родными. Расстояние между ними все увеличивалось, быстро удалялось село, вот уже и толпа сельчан слилась в сплошное темное пятно. Только старуха береза долго еще маячила, возвышаясь над затуманенной темной массой села, но, все дальше и дальше отдаляясь, скрылась из виду и она.
Часть вторая
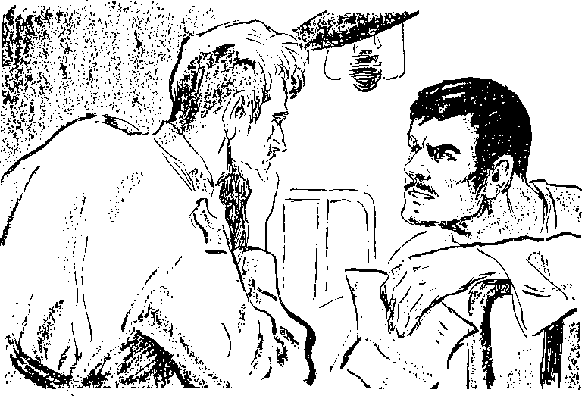
Глава I
С унылым однообразием потянулись дни, первые дни военной службы Егора. Каждый день как две капли воды походил на предыдущий: утром побудка в шесть часов, уборка на конюшне, то есть водопой, чистка лошадей, затем завтрак, строевые занятия, обед, короткий отдых, занятия по устной словесности, уборка, ужин, поверка — и так каждый день.
Прошла всего одна неделя службы, а Егору она показалась за год, и он с ужасом думал, что впереди еще долгих четыре года. Больше всего его томила тоска по дому, по Насте. Вечерами после поверки, когда казарма погружалась в полумрак и по ней медленно прохаживался одинокий дежурный, Егор, лежа на койке, все думал и думал об одном и том же: как теперь там Настя, скоро ли придет от нее письмо? Вспоминались минувшее лето, встречи с Настей, а чаще всего сенокос, когда они дни и ночи находились вместе. Эх, какое же это было золотое времечко, и он только теперь оценил его по-настоящему.
Командиром четвертой сотни, в которой пришлось служить Егору, был есаул Токмаков. Казаки не любили Токмакова и за жестокость прозвали его Зубаткой.
Служба в сотне, да еще при таком командире, казалась Егору в десять раз хуже его батрачества. Единственной радостью его в первую неделю службы было то, что он повстречал в сотне Степана Швалова. Встретились они в конюшне, на утренней уборке лошадей. Егор чистил своего Гнедка, когда услыхал знакомый голос. Проворно работая скребницей, Швалов разговаривал с чернявым казаком из второго взвода.