С того мгновенья, как она, оттолкнув мужа, ринулась к сраженному Крамору, с ней происходило что-то непонятное, необъяснимое: мысль не опережала, даже порой не поспевала за словами и поступками, а тело пылало как в крапивнице, и необоримая сила гнала и гнала ее — вперед-вперед, скорей!
В областной больнице она два года специализировалась по сердечно-сосудистой хирургии, но здесь не было такого отделения, она была и травматологом, и проктологом, и… словом, делала операции на всем, кроме сердца. И вдруг…
Ассистировал ей молодой хирург Вильям Гросс — бородатый, кудрявый, с улыбкой на крупных губах, недавний выпускник первого Московского медицинского института.
Четыре часа длилась операция, и за четыре часа балагур и острослов Вильям Гросс не проронил ни слова, мгновенно и точно выполняя приказы Клары Викториновны, поспевая при этом следить и за пульсом, и за дыханием, и за кровяным давлением оперируемого.
— Все, — выдохнула Клара Викториновна, снимая маску с лица и с опаской глядя вслед носилкам, на которых увезли беспамятного, но живого, пока живого Остапа Крамора. — Все…
Почувствовала оглушающий прилив слабости, качнулась и, не подхвати ее Вильям Гросс… У него были очень сильные руки, он легко приподнял ее и почти вынес в предоперационную. Помог снять халат и перчатки, подал таз, полил на руки, а потом бережно, как тяжелобольную, усадил в кресло и протянул сигарету. Она курила очень редко, в чрезвычайных случаях, и почти никогда не курила в больнице. Но сейчас с наслаждением затягивалась сигаретным дымом, медленно выпуская его через нос.
Далеко за полночь, где-то на подступах к рассвету, в кабинет главного, куда они перебрались, вбежала медсестра:
— Он просыпается!
Действительно, Крамор просыпался. Желтые веки подрагивали, дыхание участилось, стало громким, какие-то невнятные звуки вылетали из полуотрытого рта.
Клара Викториновна долго вглядывалась в восковое лицо художника, щупала пульс, слушала сердце, потом легонько шлепнула больного по щеке. Тот приоткрыл глаза. Она шлепнула еще раз, еще, потрясла за подбородок.
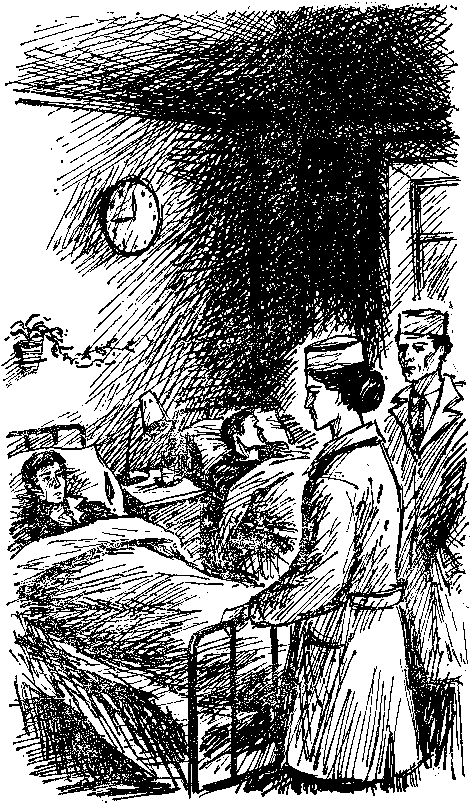
— Крамор. Вы меня слышите? Слышите?
Он не слышал. Веки снова сомкнулись.
Ему сделали укол, разбудили, и опять Клара Викториновна спросила:
— Вы меня слышите?
— Слы-шу, — еле внятно пролепетал Крамор заплетающимся языком. Долго молчал, собираясь с силами, потом чуть слышно: — Его поймали?
— Поймали, — ответила Клара Викториновна, счастливо улыбаясь и едва не плача от волнения. — Поймали, мой дорогой…
Легко и молодо выпорхнула из палаты и понеслась в приемный покой, где томились в тревожном неведении жена и дочь художника. Клара Викториновна порывисто обняла обеих, притиснула, жарко выговорила:
— Порядок! Будет жить и бегать. Отдыхайте. Придете днем, часиков в двенадцать.
Отправив их домой на «скорой помощи», Клара Викториновна медленно, нога за ногу протащилась в свой кабинет. Мельком глянув на электрочасы, отметила про себя: «Четверть пятого», — и остановилась, не зная, что же делать теперь. Все доселе занимавшее ее — позади: происшествие на улице, стычка с мужем, марш-бросок в больницу с полумертвым Крамором на руках, рискованная и практически безнадежная операция, невероятная удача… Что же теперь? Куда? Домой?..
— Ой!
Представила заспанного Ивася. Почему-то не подумала, что муж не спит, ждет и волнуется. «Сырец. Непрокаленный, ломкий и дряблый. Чуть тронуло сквознячком — в укрытие. Преферанс. Маникюрная пилочка. Приключенческий романчик…»
Захлестнула неприязнь. Как ненавидела она мужа в этот миг. Вспомнилась их перепалка после его возвращения из Турмагана. «Решай, как знаешь. Не насилую. Можем пожить и порознь…» Что-то необычное, волнующее и радующее почудилось ей тогда в этих словах. В нем просыпался мужчина. Она уступила — поверила. Радовалась каждой, пусть и очень малой примете его перерождения. И, уже увидев и осознав свою ошибку — «никогда не распрямится», — она все еще обманывала себя, цеплялась за соломинку, не замечала очевидного, не верила бесспорному. Из всех сил пыталась встряхнуть, зажечь, воротить хотя бы надежду. Не удалось. Воистину «рожденный ползать — летать не может…»
Постояла в пустом, тихом, полутемном коридоре, уняла немного душевную боль и медленно нехотя распахнула дверь своего кабинета. Вильям Гросс стоял в пальто, с беретом в руке.
— Почему вы здесь? Идите домой. Отдыхайте.
— И вам пора, — отозвался Вильям Гросс, засматривая ей в глаза.
Она спрятала их под приспущенными веками, бочком прошла к столу, легко, непрочно присела в кресло.
Это было странное молчание, прошитое встречными, невысказанными мыслями и желаниями. Оно стремительно накалялось, густело, становясь нетерпимым для обоих. Вскинув глаза, она тут же столкнулась с ним взглядом. Долго, недопустимо долго смотрели они в глаза друг другу, и вдруг он сказал так, как будто говорил подобное много раз:
— Пойдемте ко мне. Тут рядом. Организуем кофе. Есть коньяк.
Она подзадержала дыхание и спокойно:
— Пошли.
Коньяк был обжигающе терпким и жарким. Она словно глотала крохотные кусочки пламени, и с каждым глотком все больше огня становилось внутри и, согретый им, мир утрачивал недавнюю угловатость и колкость. И когда Вильям Гросс вдруг обнял ее за плечи и потянулся губами к ее губам, Клара Викториновна не отстранилась, прильнула к нему и так жадно впилась в его губы, что в больших черных глазах Вильяма Гросса плеснулось восторженное изумление…
Домой она пришла, когда совсем рассвело. Тихонько отворила дверь. Постояла в коридоре. Неспешно разделась. Прислушалась. На цыпочках прошла в комнату. На столе стояла бутылка вина, баночка икры и коробка любимых конфет «Птичье молочко».
Бесшумно подсев к столу, Клара Викториновна машинально извлекла из коробки конфету, сунула в рот, легонько сплющила зубами.
Из растворенной двери спальни доносилось легкое, приглушенное сопенье спящего мужа.
«Что-то он вчера говорил о… Ах, да… Помнит…»
И заплакала.
Злыми, горькими слезами…
Глава одиннадцатая
Напрасно надеялись турмаганцы, что выпавший в сентябре снег растает и осень еще хоть чуток погостит у них, порадует золотым разливом, багрянцем и голубизной, одарит рябиной и клюквой, побалует рыбкой и дичью. Напрасно. И хотя снег пал на зеленое, неувядшее, неопавшее, но как лег, так и не стаял больше. А все подсыпал и подсыпал, и уже не дожди и осенние ветры, а бураны сдирали недожившую зеленую листву с дерев. Турмаганцы поминали недобрым словом синоптиков, суливших затяжную теплую осень, пытались объяснить небывало ранний приход зимы, а сами спешно латали дыры, куда уже запустил мороз свою когтистую, беспощадную лапу.
Да, человек только предполагает, а располагает за него кто-то другой.
Кто?
Природа?
Обстоятельства?
Судьба?
Неведомо.
Зато бесспорно одно: эта неподвластная сила влияет на каждого и на всех. И что выкинет эта сила — никто не в состоянии предугадать.
Когда-то, не так давно, Крамор вопрошал Бакутина: а с простреленным сердцем как? Сам поверил в придуманную им историю с красавицей актрисой и до слез растрогался от той придумки, и хотел прикрыть ею свой черный, казавшийся неодолимым, недуг. Турмаган спас его от гибели, зарубцевал раны души, но в час победного торжества и ликования самодельный стальной нож бандита пробил сердце художника. И теперь с полным основанием, но с иным, не символическим, а подлинным смыслом мог бы он повторить свой вопрос: а с пробитым сердцем как? И снова та неведомая, неземная сила вынула Остапа Крамора из холодной, мертвой черноты и воротила ему самое ценное — жизнь.
Дважды воскресший Крамор с обостренным до болезненности изумлением вглядывался в окружающее, прислушивался к голосам жизни, вбирая в себя ее звуки, краски, лица, и неистово работал. Кто знает, когда вздумается судьбе в третий раз подставить коварную подножку, и пошутит она, припугнет иль в самом деле выщелкнет из сонма ему подобных? Может быть, это случится через пятьдесят лет, а может, через секунду. Потому поспевай, не откладывай на завтра, жми насколько хватит сил. И он поспевал, не откладывал, жал. Лишь тогда приостанавливал работу и напряженно задумывался, когда подкатывал, подсекал, хватал за горло потрясающе бесхитростный, извечный вопрос бытия: зачем человек приходит в этот мир? Он знал: вопрос этот стоит за тем пределом, куда человеческому разуму нет ходу, семь тысяч лет безнадежно бьются над ним мудрецы, философы, богословы, жрецы и пророки. Зачем живет человек на земле? Непрестанным трудом кормит и поит себя, продолжает свой род — зачем? Иссушает мозги и нервы науками, экспериментирует, рискует, изобретает — зачем? Расщепил атом, заглянул в космос, обшарил Луну, Марс и Венеру — зачем? Время жизни человека — ничтожно, невыразимо мало. Один короткий, робкий вздох, и все, и нет человека, бесследно и навечно — нет! Зачем же муки и скорби, радости и восторги? Зачем? Да и те кровью и потом добываемые блага земные несут людям не только и не столько радости, сколько горе и страдания. Они разобщают, очерствляют, омашинивают человека. Но если б они дарили ему только наслаждения — все равно он умрет, обратится в тлен и для него исчезнет весь этот мир, который он создал титаническим трудом, оборонял, украшал. Так для чего жить? И как? Ублажать плоть, потакать ей, рвать от общего пирога кусок покрупней да полакомей или…