— А как же чувство? — парировал старик.— Чувство — душа музыки...
— Наша теория не изгоняет чувство, вовсе даже наоборот... Надеюсь, вы в этом убедились, когда слушали нашу божественную синьору Витторию?
— Что выходит из сердца, то и проникает в него,— улыбнулась Аркилеи.
К спору внимательно прислушивался человек лет тридцати, худощавый, с умным, пытливым взглядом и тонкими пальцами музыканта. Это был Клаудио Монтеверди, придворный маэстро музыки герцога Мантуан-ского, приехавший со своим синьором на торжество во Флоренцию. Просвещенные любители музыки знали молодого композитора как сочинителя отличных мадригалов — вокальных поэм — на родном итальянском языке (а не на латыни — языке католической церкви). Но публике это имя ничего еще не говорило.
Монтеверди был восхищен «Эвридикой». Он и сам хотел покончить со «злоупотреблениями полифонистов», затемнявших смысл слов обилием накладывающихся друг на друга мелодий. Ему нравилось писать для одного солирующего голоса. Хотя от полифонии в музыкальной драме совсем отказываться не нужно. В полифоническом звучании есть свои достоинства... В чем-то прав едкий старик...
Размышления Монтеверди прервал Винченцо Гонзага, герцог Мантуи, плотный человек средних лет, с большими залысинами на голове и холеной бородкой:
— Что скажешь, маэстро? Не правда ли, моя племянница Мария Медичи родилась под счастливой звездой?
— Вы правы, ваше светлейшее величество, свадьба на славу, и особенно спектакль... Но я думаю, мы присутствовали еще на одном бракосочетании...
— Орфея и Эвридики?
— Нет, не только... В союз вступили музыка и театр... И от этого брака уже родилось нечто новое, что следует хорошо воспитать, бережно взрастить...
— О да! — воскликнул герцог Гонзага.— Мы создадим в Мантуе своего «Орфея» и утрем нос всем Медичи! И у нас актеры будут разговаривать музыкально... Дело за тобой, дорогой маэстро!
Они вышли на ночную улицу. Праздник продолжался. Тысячи плошек, наполненных маслом, пылали на площадях, на перилах мостов через Арно, на балконах домов и у подъездов. Горящие факелы освещали башню дворца Синьории, гордо вознесшуюся к звездам. Звучали мелодии канцонетт — темпераментные и томные, озорные и грустные одновременно.
— У нас будет свой «Орфей»! — произнес Монтеверди, и слова звучали как клятва.— В драму на музыке (так ведь назвали флорентинцы свою пьесу) я волью свежую кровь народных песен... Сохраню все, что есть ценного в полифонии, но мелодию сделаю главной. Мелодия и многоголосие объединятся в едином ансамбле в моем «Орфее»!..
Это была программа нового жанра, на какую не отважились флорентинцы. Программа более смелая и глубокая — слить достижения старой музыки с новыми открытиями. Нужен был гений Монтеверди, чтобы «драма на музыке» утвердилась окончательно.
Герцог Гонзага искусство любил искренно и пылко. Даже на театр военных действий он ездил со своими музыкантами и собственным композитором. Правитель Мантуи соорудил придворный театр, вмещавший шесть тысяч зрителей. Средств на искусство он не жалел, но тех, кто создавал искусство, держал, что называется, в черном теле.
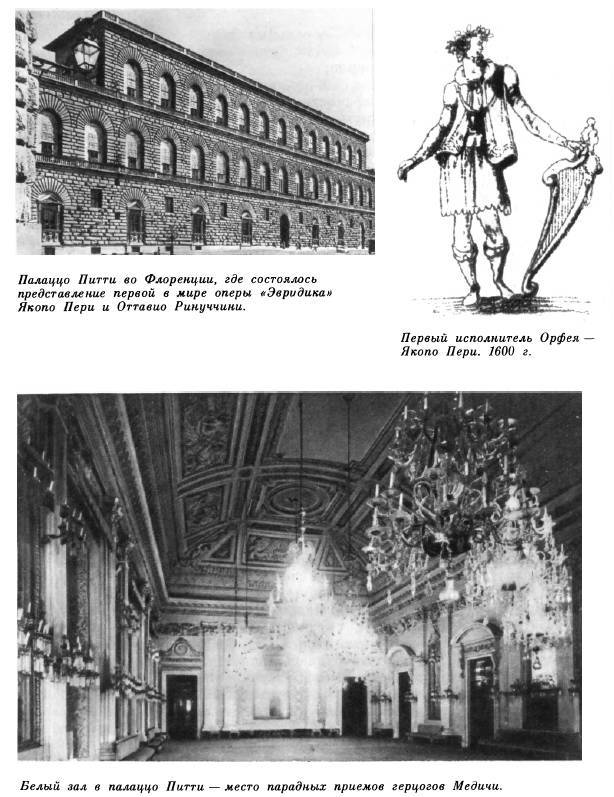
— Я должен был каждый день ходить к казначею и вымаливать у него деньги, которые по праву принадлежали мне,— жаловался Монтеверди.— Видит бог, никогда в жизни я не испытывал большего духовного унижения, чем в тех случаях, когда мне приходилось ждать у него в прихожей.
Нужда и болезни преследовали композитора. Его жена, певица Клаудиа Каттанео, после рождения первенца слегла в постель. Она таяла на глазах. Музыкант пытался вырвать жену из рук смерти, но ничего сделать не мог — для врачей ее болезнь была загадочна и непостижима.
А придворный маэстро вынужден был писать музыку к любому торжеству, сочинять столько новых пьес, что порою едва успевал записывать ноты, чтобы сдать сочинение в срок. В таких условиях он создавал свою первую музыкальную драму «Орфей».
От нового творения Монтеверди ждали многого. Его имя становилось все более известным в Италии. Его мадригалы исполнялись за рубежом.
Спектакль обещал быть необыкновенным. На главную партию был приглашен из Флоренции знаменитый певец Джованни Гуальберто. В оркестре было более тридцати музыкантов-виртуозов (а не четыре, как у Медичи). Костюмы шились из самой дорогой ткани. Для сцен в аду и полетов под облака были изобретены хитроумные театральные машины. В придворной типографии отпечатаны специальные в кожаных переплетах книжечки — либретто,— чтобы слушатели во время исполнения могли следить за текстом при свете зажженной свечки.
В начале 1607 года «Орфей» Монтеверди был показан в Мантуе, во время карнавала, а потом несколько раз — в парадном зале герцогского дворца.
Спектакль начинался оркестровой увертюрой, вводившей слушателей в «мир взволнованных чувств» его героев. Такая симфоническая картина была новинкой. Никогда еще «драма на музыке» не предварялась инструментальным вступлением. В этой «симфонии» с особой силой проявился гармонический дар Монтеверди.
На сцену вышел Пролог. Но не Трагедию олицетворял он, как в спектакле флорентинцев, а Музыку. И это тоже имело принципиальное значение — акцент со стихов переносился на мелодию.
Перебирая струны золотой лиры, Пролог воспевал силу мелодии, способной, подобно пению легендарного античного певца, врачевать души и смягчать сердца.
Сюжет «Орфея» Монтеверди в общих чертах повторял «Эвридику» Пери, но как неузнаваемо преобразилась музыка!
Это сочинение маэстро из Мантуи было по существу первой настоящей классической оперой. Правда, сам термин «опера» появился тридцать лет спустя — так назвал свой труд «Свадьба Фетиды и Пелея» венецианец Франческо Кавалли. Самые первые оперы флорентинцев, по сравнению с трудом Монтеверди, казались теперь схематичными, сконструированными умозрительно, а декламация под музыку в их сочинениях напоминала чтение псалмов в церкви, настолько она была монотонной.
Народ Италии пел иначе — полнозвучно, мелодично и темпераментно! И Монтеверди, опираясь на опыт народных и профессиональных музыкантов, слив в единый сплав музыку простонародья с «ученой», создал свой шедевр. Он вдохнул в оперу жизнь, раскрыл в музыке человеческие чувства. Сам композитор называл свой стиль «взволнованным».
Клаудио Монтеверди оказался первым композитором, сумевшим в музыкальных звуках правдиво рассказать о человеке, отразить мир его чувств. До Монтеверди музыканты были стиснуты оковами церкви. Она требовала музыки аскетической, «духовной», возносящей к небесам, как бы очищающей душу от земных страстей. Монтеверди искал мелодии, которые выражали страдания человеческого сердца.
«Когда я писал «Плач Ариадны»,— вспоминал композитор о своей более поздней, нежели «Орфей», опере,— я пользовался знаниями, почерпнутыми мною из опыта, а не из какой-нибудь книги, которая бы указала мне средство естественного подражания чувству, и в еще меньшей мере от какого-нибудь автора, который бы объяснил, из чего должно слагаться это чувство».
Поначалу Монтеверди, в соответствии с античным мифом, хотел закончить своего «Орфея» трагически. Певец, навсегда потеряв Эвридику, должен был погибнуть, растерзанный вакханками, которые мстили ему за отказ принять участие в их праздниках. Но опера предназначалась для придворного спектакля. И маэстро пришлось сочинить благополучный финал. С облаков спускался бог солнца Аполлон, узнавал в певце своего сына, и оба улетали в небесные сферы, где Орфей встретился с Эвридикой. Балет с участием эллинских божеств завершал оперу праздничной сценой.
Успех был триумфальным. После окончания спектакля композитора окружили друзья. Среди них были великие поэты и художники — Торквато Тассо, Рубенс, Гварини. Они поздравили Монтеверди с победой. Но музыкант спешил домой, к умирающей жене. На вопросы критиков, пожелавших узнать, в чем, по мнению маэстро, причина столь блистательного приема, он ответил коротко: