Власти там начинают бдительно следить за неблагонадежными, в особенности — за теми, кто поддерживает связь с Тильзитом и Клайпедой и кого подозревают в получении запрещенной литературы, а может, и оружия. Из-за прокламаций Акелайтиса возбуждено большое политическое дело. Привлекаются к ответственности не только Акелайтис со студентом Буцавичюсом, но и еще два помещика — Раевский с Монтвилой, и поселянин Кукутис. Буцавичюс и Монтвила уже заключены в Вильнюсскую цитадель, за Кукутисом охотится полиция. Виленский генерал-губернатор Назимов отдал строгий приказ об аресте Акелайтиса. Виновные в укрывательстве или в упущениях при розыске будут преданы военному суду.
Шилингас, встретив Мацкявичюса, рассказал, как Кудревич в Сурвилишкисе сбил с толку жандарма, которого прислали из Каунаса для задержания Акелайтиса. Тот скрылся и, можно надеяться, уже успел удрать в Пруссию.
Недреманное око власти ощутил на себе и сам Мацкявичюс. В Жемайтию он ездил не для развлечения, но по епископскому вызову. И вот он вернулся, отбыв тяжелое наказание. Епископ долго ругал его, приказал три дня отправлять реколлекции, а кроме того, пригрозил перевести его под самую Курляндию, если не перестанет мутить людей. В генерал-губернаторской канцелярии полно жалоб и рапортов о его речах и проповедях в Пабярже, Паневежисе и других местах.
Вспоминая разговор с епископом и наложенную им кару, Мацкявичюс еле сдерживается. Да, он понимает, каково положение епископа, какие требования предъявляют ему власти. И все же он не может отделаться от горечи.
За что его бранили и наказывали? За то, что он выступал против несправедливости, ободрял страждущих, поруганных людей. Для себя он ничего не добивался. В вечной нужде, окруженный ненавистью помещиков и насмешками соседних ксендзов, нередко измученный и голодный, вот уже много лет он без устали ездит по деревням, то поучает, то успокаивает, то укоряет. Он умеет быть суровым и серьезным, добрым и снисходительным. Он понял истоки слабости и силы человека, но пользуется своею властью только для блага людей. Нелегко ему в этом мутном водовороте горя, иссякающего терпения и загорающихся надежд.
В сердце борются противоречивые чувства. Одолевают злоба и обида. Не только из-за кары. Может быть, еще больше из-за людской неблагодарности. Не раз в глаза перед ним заискивали, а за глаза ругали и строчили доносы. Зачем-де эти новшества, разговоры против панов и властей? Отцы наши так жили, и мы проживем, и каши дети жить будут и помрут. Так богу угодно. Много понадобилось ему сил, чтобы вырвать из сознания крестьян это глубоко укоренившееся ложное представление о "воле божьей".
Его усилия не пропали даром. И понемногу у Мацкявичюса возникают более светлые мысли. Мысленно оценив всю свою деятельность, он понимает, что в конце концов завоевал доверие и любовь всех честных людей. Приятно об этом вспомнить в суровый, осенний вечер.
В памяти Мацкявичюса оживают его успехи и поражения за восемь лет. Когда он приехал в эту округу, то нашел темных, затравленных, покорных панскому произволу и божьей милости пахарей, которые терпеливо влачили крепостное ярмо, подобно своим волам, не замечая обид и не надеясь на лучшую долю.
И вот понемногу, исподволь, осторожно он заставлял их выйти из этого отчаяния. Старался почаще с ними встречаться, расспрашивал об их житье-бытье. Его вопросы часто удивляли их. Они даже не умели отвечать. Но его доброе отношение влияло на них — загнанных, отвыкших рассуждать.
Его поучения быстро становились достоянием всей округи. Люди скоро поняли, что он им друг. Если он призовет, они пойдут за ним, не боясь ни невзгод, ни смерти.
Если он их призовет… Мацкявичюс замедляет шаги. Да, наступит день, когда он кликнет клич. Пойдет и поведет их за собою. К победе или к гибели? Это страшное сомнение, как он его ни подавляет, не раз уже возникало в его думах. Сегодня этот вопрос обозначился еще ярче. Должно быть, потому, что и епископ ставил его — настойчиво, грозно…
Ксендз, облокотившись на стол, стискивает ладонями виски и устремляет глаза на колеблющееся пламя свечки. В карих зрачках трепещут неровные огоньки. Большая тень медленно ползет по стене.
На дворе все так же воет осенний ветер, барабанит дождь, что-то глухо стучит по коньку крыши, жалобно стонет в печной трубе. Но в комнате необычайно тихо. В стене недалеко от печи хрустит короед, в углу под полом попискивает мышь. Ксендз невольно вслушивается, но эти звуки не нарушают течения его мыслей. Да, наконец, мыслит ли он сейчас? Он погружен в такое состояние, когда человек непосредственно сливается с глубинами жизни, ощущает полноту существования и зловещее дыхание смерти. Неожиданно всплывает образ матери. Давно уж ее нет, но милое, доброе лицо перед ним, как живое. Она напряженно глядит такими же карими, как и у него, глазами. Потом проходит мимо множество других дорогих ему лиц — родных, друзей, знакомых. Ксендз откидывается, зажмуривается и на некоторое время отдается потоку воспоминаний.
Вспоминает Пранайтиса. Его похоронили недавно вместе с Рубикисом. Трогательное погребение, смерть примирила двух заклятых недругов. Немного было нужно, чтобы вместо Пранайтиса в могилу лег Скродский. Это было бы логичнее и справедливее. Однако жизнь, видно, следует каким-то иным законам.
За год на пабяржском погосте, рядом с другими могилками, выросло четыре необычных холмика над людьми, умершими не своей смертью: над Евуте Багдонайте, Даубарасом, Пранайтисом и Рубикисом. Какая-то закономерность связывает эти четыре могилы! Мацкявичюс чувствует, что и он сам — одно из звеньев этой связи. Его слова и дела, его влияние вместе с течением жизни заставляют людей думать и поступать иначе, чем было привычно до сих пор. Многие сами гибнут и других убивают без смысла, без пользы. А надо, чтобы они шли осмысленно, ради высшего блага. Для этого нужно руководить ими.
Мацкявичюс смотрит на трепетное пламя свечи, и снова ему мерещится суровое лицо епископа и грозно вскинутый перст… Сумеете ли вы, подстрекатели, поднять такие силы, чтобы свергнуть престол огромной империи? Мацкявичюс отрезал: да, сумеем, ибо поднимутся миллионы!
И вот крылатая фантазия уже показывает ему восставшие миллионы. Они идут, как волны разлившегося моря, в такую же ночь, с косами, топорами и ружьями, против вихря, свирепствующего, как и сейчас.
В этом море он различает и себя, ведущего людей своего края. Вот рослый силач Пятрас Бальсис, упрямец Лукошюнас, маленький хитрец Адомас Бите, проказник Казис Янкаускас, удалой Дзидас Моркус, Норейка и много других знакомых и незнакомых.
Мацкявичюс быстро поднимается и опять начинает крупными шагами ходить из угла в угол. Сердце полно надежды и решимости. Он ощущает свою силу. Есть у него убеждающее слово, зажигающий взгляд, увлекающая воля.
Люди доверяют ему, он не может их обмануть!
Стиснув кулаки, шепотом, но четко и повелительно, отвечает он сам себе:
— Мне нельзя сомневаться! Все силы приношу я в жертву своим людям и Литве!
…На дворе по-прежнему неистовствует ветер, но тучи начинают рассеиваться. В просветах появляются звезды, на земле уже виднее.
Как черные бугорки, маячат пабяржские избушки, размахивают голыми сучьями деревья, а верхушки их мечутся под ударами вихря.
Вот на маленькой площадке еле различимые крыша и башенка небольшого костела. Невдалеке домик и единственное освещенное окошко. Там, как маятник, мелькает тень человека.
Где-то далеко запели первые петухи.
Утро рассветет еще не скоро.
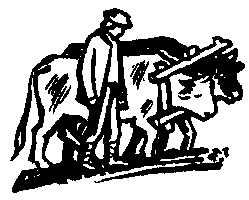
Послесловие
В этой книге мы встречаемся с представителями разных классов и сословий феодальной Литвы. Перелистывая последние страницы, мы расстаемся с крестьянином Пранайтисом и ксендзом Мацкявичюсом.