До вечера сидел зелененький на камушке. Рот дугой, всюду бородавочки. Глядит. А то спустит складочки мягкие на глаза, и сделаются два выпученных серых шарика.
Ходила злая, нетерпеливая. Сердце замучилось.
Любила и ненавидела чудовище.
Нет, ненавидела зелененького.
Так и спать пошла, не решившись. К вечеру ведь солнце ушло с моего балкона...
Лежу и засыпаю, и не сплю. Очень это неприятно.
Зажечь бы свечу. Поглядеть, что в банке. Что если и ночью оно не спит? Есть ли у него глаза? Я не заметила за клешнями. Да, впрочем, это все равно. Ночью ведь глазами не видно.
Высосет. Ой, высосет до утра!
Но тот на камне... Сползет, ой, сползет с камня в любимую мутную водичку, болотную, родимую.
Я же нарочно из канавки глубокой, где трава скользкая растет, носила. Только уже так норовила, чтобы нового животного вместе с водой не зачерпнуть...
Мысль встрепенулась, и уже нога занесена к полу. Вдруг сердито вспоминаю: "природа! природа!" -- "человек хочет, как не может" -- "это значит, даже Бога не слушаться".
Да и лень! Да и темно! Да и ужасно неприятно ночью увидеть его.
А вдруг оно превратилось? Вдруг именно сегодня? Именно сейчас собралось превращаться? А если собралось превращаться,-- может быть, и грех убить его. Может быть, раньше, чем того высосать, превратится, и тогда уже никого никогда не будет сосать. А я убью? Именно тут-то и убью, когда не следует?..
Да и как убить? Солнца нет ночью. Давить нужно. Оно захрустит. Оно жесткое.
Голову зарыла под подушку, чтобы все было глухо и мягко.
Так пусть само!.. Так надо.
Заснула.
Утром лупоглазого лапчатого лягушонка нет.
Оно, оно. Одно оно.
Не жалко мне. Не плачу. Какое-то спокойствие нашло.
Иду вниз, молча, закусив деловито губу, в буфет за ложкой. Ложкой вылавливаю сонное, сытое чудовище. И туда, на железный балкон.
Еще солнце не накалило листов. Еще оно за углом.
Ждать что ли? Вот еще,-- дожидаться!
Выплескиваю воду, вытряхиваю его на пол. Гляжу.
Извивается, гадко хлопается жестким хвостом по железу, вздымая клещатую голову с гадкими желтыми глазенками. Вижу, теперь все вижу. Близко наклонилась. С пол моего маленького мизинца будет оно, а мне чудится, я ему в глаза гляжу, прямо в гадкие, в желтые, в жадные, в непощадные.
Камень принесла, тот, из банки, на котором сиживал зелененький. Прижала камнем гадкую голову с клещами и глазами. Давлю. Хрустнуло. А звенчатое тело все бьется, все извивается, и хвост вздымается стойком вверх.
Противно невмочь.
Бросаю камень. Голова вся раздавлена.
Ничего. Ничего. Сейчас все кончится. Иду, вся деловитая, к себе. Хватаю двумя руками цепко банку и -- в окно.
Летит банка, брызжа водою, гнилой, мертвой, грязная банка далеко за окно, туда, где песочек чистенький на цветниковой площадке. Это сердце вдруг озлобилось острым кошачьим когтем.
Ничего. Так "скорей кончилось" в моей банке. Пусть.
А там, в болоте, продолжается,-- как Бог устроил?..
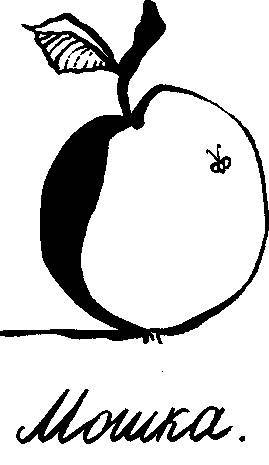
Посвящается Модесту Людвиговичу Гофману
Я любила и ненавидела весну, и не знала, что люблю, и не знала, что ненавижу.
Просто в каменную тюрьму мою зимнюю, среди других многих каменных тюрем, прорывалась немая весть, что весна пришла, и каждая кровинка уже знала.
Опостылый город каменный, где и грязь была не настоящая, не земляная, и трава и деревья, все нарочно,-- вдруг сам весь становился не настоящим и нарочным, как, когда уж кончишь все уроки, а еще стоишь и слушаешь проповедь гувернантки, и знаешь, что все слова говорятся ненужные, и не слышишь их, и знаешь, что вот постоишь так, не слушая еще, немножко, немножко, и выбежишь из комнаты, а слова забудутся, даже неуслышанные.
В эту весну, в которую, зарывшись под подушки Анны Амосовны, я выла о своих грехах,-- немая весть оттаивающей земли медлила невыносимо. И пастух запаздывал гнать по нашей длинной улице городское стадо к плешивому пригородному пастбищу, куда и я с Анной Амосовной пробиралась уже часто после завтрака вместо "гимнастики", и всегда нарочно забыв калоши,-- пощупать промокшими по промозглой весенней мостовой подошвами настоящую землю. И не трубил еще его сиплый рожок, и глухо не били земляным топотом каменную мостовую мягкие копыта. И не вскакивала в своей постели, широко раскрытыми глазами не слушала деревенские звуки, не выбивалось из тесной клетки радостною тоскою вспугнутое сердце.
Город еще не выпускал; еще стоял весь слитый, стиснув стены, стена к стене, и постыло-настоящий. А дни становились длинными, ранние утра и предвечерия белыми, розовеющими.
Мошка в ту весну сказала мне весну, дала вдруг свободу заждавшемуся сердцу, одно коротенькое мгновение свободы, один, нет, может быть, десять вольно-скачущих радостью внезапною, радостью безумною и страхом гонким -- ударов в левом углу груди и... кончилось.
Это было в столовой за вечерним чаем. Столовая не светлая, и уже над большим столом горела лампа и ярко отдавала свет белая скатерть. На ярко-белом, блестящем полотне я заметила ее в тот же миг, когда прозрачные крылышки опустили маленькое, с булавочную головку, тельце на скатерть.
-- Мошка! Мошка!
И чуть я не задохлась в тот коротенький миг, в ту полминуточки, пока глядела остро-зоркими глазами на пылинку-мошку, потому что вдруг ворвалась в совсем опустевшее сердце вся весна. Да такая просторная и пахучая!
И радость такая, которая голосом кричит, так бежит и кричит, бежит и кричит. Это я бегу и кричу, но как будто и все.
Бегу и кричу. И в тот миг была уже весенняя моя роща. Сквозь зеленую, дышащую, молоденькую тень -- золотые снопы, щедрые, пышные снопы лучей! Коснулись зеленой травы и влажного песка,-- растекаются жидкими, обильными лужами золота.
Конь мчится: это тонкие, гибкие ноги, легко отбрасываясь от влажной, гулкой земли, снова в четком, резвом ритме напоминают ее. Ноги коня. Туловище коня. А голова, где ветром кружатся, как бабочки, из тесных куколок прорвавшиеся, в легком кружении мечты и образы, зачала и исполнения? Голова -- моя.
Но я-то кто? Все равно. Все равно. Весна полная, зацветшая, пышная!
Сколько раз, пока цвела весенняя роща и конь скакал с моей головой,-- я крикнула за столом в рано темнеющей, городской столовой:
-- Мошка! Мошка!
Я думаю, раз. Может быть, два. И в эту полминуточки весна прокатила мимо, только звон остался в одурелых ушах от металла ее колес. Мимо прокатилась великолепная ее колымага, и еще на веках обманутых глаз колебалась прохлада от веявших с нее победных зеленых ветвей.
Вдруг голос Анны Амосовны; и слова нелепо ясные:
-- Мошка? Где?
Широкая, сухая ладонь плоской ее руки шлепнулась на живую весеннюю пылинку и проехалась плоско по столу.
Мой рот открылся, и крик не вышел. Только шепотом, сдерживая дикий вой из последних, оставшихся от восторгов моих сил:
-- Вы раздавили ее.
Вскочила, бегу из столовой, обегая длинный пустой стол, где сидели у того его конца мы две, всего лишь мы две. И дальше, по не кончающемуся коридору, несу, как простоквашу, бережно, свой неразразившийся вой. Не расплескаю, держу мучительное равновесие там, в непрочной груди.
Вздохну и сорвется вой! Бегу не дыша.
Куда? В шкаф? Все знают про шкафы. Туда прежде всего забираться будут, чтобы найти. Нужно новое сыскать убежище, где не подумают, что можно плакать.
Протрусив шкафную, осторожно сворачиваю во второй коридор.
Осторожно: плеснет хоть раз -- и взвою, взвою!
Вот две ступеньки вниз. Толкнула дверь налево, и -- в учебной.
Дальше комната ее, Анны Амосовны. Верное чутье толкает меня туда нести свой вой, туда, за ее ширмочку, на ее кровать.