— Не спускайте штор, кругом ни души, а утром в это окно ворвется солнышко, и, пожалуйста, спите дольше.
Дима стоял на пороге своей комнаты и смотрел мне вслед.
— С косенкой Вы совсем девочка.
— С «косенкой»? Это что же значит, у меня крысиный хвост?
— Виноват, с пышной косой.
И каждый раз этот изумительный, ни с чем несравнимей голос уводил меня в мир улыбки, в мир радости.
Письмо девятнадцатое
Чудо продолжается
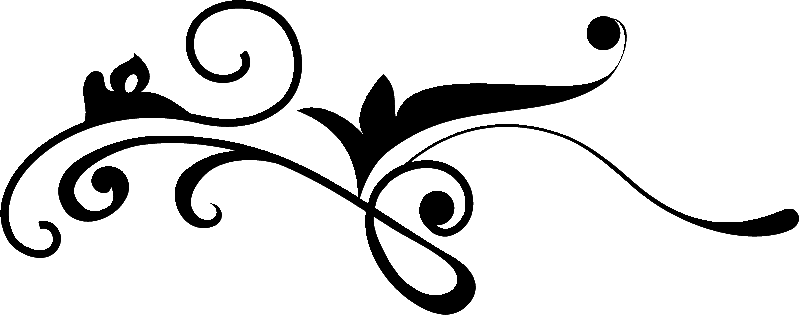
Утро было солнечное, и настроение праздничное. Предвкушение каких-то особых переживаний, только приятных, необычных, небудничных, все кругом улыбалось.
— Вы не думайте, — сказала я Диме, когда мы шли с ним по березовой аллее, по направлению к надворным постройкам, отнесенным шагов на пятьдесят от дома, — что Вы приехали в поместье, в имение. То, что Вы увидите, даже не хутор, не заимка, а все не что иное, как необходимое для домика в лесу. Никакого хозяйства здесь, кроме травосеяния, быть не может. Овес не вызревает, высоко. И с версту от города пшеница зреет. Да, по правде сказать, меня это и не интересует… А что здесь сказка — это лес, горы, озера и быстрые разговорчивые ручьи-речушки. Зимой лыжи, а летом лошади, как я Вам еще в Москве докладывала.
Немного взяло времени на осмотр несложного хозяйства. Не знаю, на самом ли деле Диме нравилось, или у него радостно все сегодня, также улыбалось и казалось ярким, солнечным, или ему хотелось сделать мне приятное, только осматривал он внимательно, вникал, расспрашивал не поверхностно, чувствовалось, не из вежливости.
— Выведи, Степан, Гнедка, — продолжала я. — Вот видите, перед Вашими рысаками, можно сказать, замухрышка. Это полукровка, наш сибирский рысачок. А Гнедко особенный, меланхолик с виду, под седлом лучшего не надо, а в упряжке не узнаете, так чешет… Ваших на полный ход на две версты хватит, а этот на пяти не задохнется.
— Выведи Пристяжку, — сказала я Степану. — Ну а эта, сами видите, тонкая, поджарая, стелется, не собьется, немножко горяча поначалу, да такая и надобна.
Дима был большой любитель лошадей, толк в них понимал. По всем правилам осмотрел Гнедка.
— Так… На пять верст, говорите, чешет и не задохнется. Интересно! — посмотрел на меня не без задорной усмешечки, хвастаетесь, мол.
«Еще и не верит, ухмыляется, — подумала. — Подожди, вот сама прокачу тебя, иначе заговоришь».
— А это что такое, что за шапка Мономаха?
— А это наш сибирский погреб, ледник, мороженщик, вернее, холодильник. Три отделения в нем: в первом всегда прохладно, летом хранится в нем молоко, сметана, яйца и тому подобное. Второе отделение, ниже, много холоднее, для жиров, битой птицы, мяса и так далее. А в третьем в особых ящиках замораживается рыба, рябчики, глухари и все, что пожелаете. На все лето хватает до осени, хорошо сохраняется. Лед, сплошь да рядом, держится по два года, и так иногда схватится, что ломом выбиваем для замены его свежим, да сами увидите. В январе набивать будем.
— А почему же сейчас первое отделение пусто?
Холодно сейчас, мерзнет, в подполье все сносится, при доме оно. Елизавета Николаевна покажет, это ее царство.
— А это что за будочка? И почему как-то забавно одиноко скворечник торчит?
— А это тоже подпольем называется, хранилище всех овощей огородных, также на всю зиму хватает. Будочка вход охраняет, так как в земле подполье, глубоко. Степан, принеси фонарь из конюшни.
Спустились мы с Димой в подполье. Груды песка в строгом порядке, одна за другой, около стенки тянутся, горка с морковью, горка с петрушкой, с репой, со свеклой. Да все, что огород дает. Капуста подвешена к потолку, коса лука, пучки укропа, а по другую сторону бочки с грибами, квашеной капустой, огурцами солеными, яблоками мочеными, арбузами солеными…
— Да ведь это наш московский Охотный ряд, — воскликнул Дима.
— Вы изволили еще интересоваться насчет скворечника, так это видите, вот в потолке отверстие. Скворечник — это вытяжка. Чувствуете, нет здесь ни гнили, ни сырости, но бывает, что раз в месяц жаровню приносим с горячими углями для сухости.
Съели мы с ним по моченому яблочку, грибков отведали из бочки, руками брали, куда вкуснее, а в карманы белой репы набрали, словно некогда не ели. Заглянули и в птичник, хотя и небольшой, но на манер образцовых поставлен. Куры, гуси, утки, индейки. У каждого свое отделение и дворики для прогулки. Окна на юг, отопление зимой. Показала ему и инкубаторную комнату, последней марки инкубаторы на сто-двести яиц. В коровник, в конюшню заглянули. И в оранжерее побывали, с десяток земляники полуспелой нашли, съели, вкусной показалась. Огород, занесенный снегом, окинули.
— Какой огромный! — воскликнул Дима.
И у Маши со Степаном в избе побывали. В летний домик для косцов посмотрели, наконец домой направились.
— Позвольте, а что это за крыша в мелком ельнике выглядывает?
— Ах, забыла! Это баня, наша русская, уральская, ее не только стоит посмотреть, в ней мыться — одно удовольствие. Все Ваши московские ванны ничего не стоят, и моя в том числе. Видите, вот это предбанник, здесь раздеваются, а вот и сама баня, вот комната для пара, а на самой верхней полке, если в младенчестве березовой каши не пробовали, то вот этими вениками возместить можно. Сразу помолодеете лет на тридцать!
— Гм… В пятилетнего обращусь? Интересно, очень интересно! Позвольте, две бочки с холодной водой, а где же горячая? Или у Вас только пар и веники омолаживают?
— Ничего подобного, когда баню натопят, то в одной бочке будет горячая вода, а в другой холодная.
— Горячая в деревянной?
— Да, горячая в деревянной… Прикажите, довольны останетесь, завтра себя не узнаете.
Когда мы вышли снова во двор, я спросила его:
— Уговорила?
— Как прикажете.
— Степан, приготовь баню к десяти вечера, да чтобы угарная не была.
Возвращались домой.
— Подождите, — сказала я, — вот видите, почти против дома, немножечко правее, плотина, а маленький домик на ней, это летняя электрическая станция. Смотреть ее сейчас нечего, зимой в ней пусто.
Затем поднялись на верхнюю большую террасу. Вид днем, при солнышке, очаровал Диму не меньше вчерашнего.
— Вот за этой огромной скалой-горой, покрытой изредка могучими соснами, последний полустанок железной дороги перед городом. Если идти напрямик, он находится не больше, как шагах в двухстах отсюда, но, слава Богу, со стороны полустанка скала почти отвесна, перед ней есть болотина, а потому шатающийся народ по линии сюда никак не забредет, а в обход гор будет с версту.
Далеко, далеко послышался шум приближающегося поезда.
— Угадайте, какой идет товарный или пассажирский? Дима прислушался. Шум приближался, и тяжелым эхом откликались горы.
— По ритму, громыханию, грохоту, без сомнения товарный, — определил Дима.
Поезд, тяжело пыхтя, приблизился и также удалился, а горы отвечали все слабее и слабее.
— А вчера, — сказал Дима, — этот же вид, ночь и луна сделали его волшебным. Впрочем, вчера все было из сказки о тереме Заморской Царевны, а как еще недавно, всего три месяца…
Он умолк и задумался. Что вспомнил он? Москву, нашу встречу? То, что было три месяца назад? Случайно, неожиданно, я перешагнула порог кафе у Страстного бульвара, и с этого момента его и мои мысли, жизнь и все наши ощущения потекли по иному, неведомому нам раньше пути.
— Ау-у… — Елизавета Николаевна звала нас завтракать. После завтрака мы осматривали дом. Дима был удивлен количеством комнат, огромными окнами, его барским размахом. Понравились ему мои верхние летние комнаты и балконы.
— Ну а теперь скажите мне, все у Вас здорово толково устроено, вкус, вдохновение и организаторские способности, скажем за Вами, но кто исполнитель всех затей?
— Я уже Вам говорила, Иван Иванович, простой вятский плотник. Дай ему, как и вашему кустарю Трофимычу, учебу, неизвестно какого калибра был бы этот строитель. Да Вы его увидите, он частенько приезжает ко мне в гости, мы с ним большие приятели. С самого утра, нет, даже со вчерашнего вечера и во время осмотра дома и всего окружения, и за завтраком и, вообще, все время нас волнующе беспокоил один и тот же вопрос: равны ли наши силы по части рояля, и, когда мы очутились в зале, то по-детски пререкались, кому играть первому. Наконец Дима первый сел за рояль, и, не спуская с меня озорных глаз, одним пальцем начал играть «Чижика». А я, облокотившись на рояль, с презрительным видом терпеливо ждала, чем это кончится. Кончился «Чижик» такими вариациями и фокусами, что положительно не уступал концертному произведению. Я молча подошла и также начала одним пальцем: «По улице ходила большая крокодила» и также закончила ее сложнейшими вариациями и собственной отсебятиной. Благодаря ли нашему возвышенно-повышенному или повышенно-возвышенному настроению, только «Чижик» и «Крокодила» были, уверяю Вас, недурными экспромтами.