— Забери меня отсюда, — попросила она так, что Сашка невольно вздрогнул. — Забери, а?..
Сашка сжал ей плечи, посмотрел в глаза и просто сказал:
— Куда же я тебя заберу...
И стал тихо говорить, что и у него жизнь не сложилась, что живут они с женой тяжело и не мирно, и он давно бы ушел, но дети держат.
— Хотя, конечно, дети — это отговорка, — добавил он. — Край наступит, и они не помогут.
— Отчего у нас все так?
— А кто ж его знает... Не на тех женились.
Лида натянула сползавшую полу пиджака и тихонько вздохнула. Небо на востоке стало заметно светлеть, отчетливо обозначился высокий забор, деревья, и стало видно, что трибуны на той стороне совсем разломанные. Наступало утро, и надо было уходить, но расставаться не хотелось. Лида снова думала о себе, о Сашке, который уедет через неделю, и, наверное, надолго. Но до отъезда было так далеко, что он ничуть не пугал ее, да и Сашка сидел рядом, обнимал ее, согревал. И появилось еще что-то, что придавало ей уверенности; она задумалась об этом и поняла: жизнь ее сегодня изменилась — теперь Федор не то что не ударит, но даже слова плохого не посмеет сказать; да и уйдет она от него.
— Пора, — сказала она, вставая. — Не провожай меня, я побегу в ворота, а ты через забор, а?
— Как в детстве?
— Ага! — засмеялась Лида. — Не разучился?
— Что же теперь? — спросил Сашка, поднимаясь.
— А ничего, жди меня здесь вечером и ни о чем не думай.
Сашка помолчал, взглянул на светлеющий край неба:
— Побьет он тебя.
— Может, и побьет, — согласилась Лида весело. — Теперь хоть есть за что...
Она обняла Сашку, поцеловала и, вырвавшись, сразу же убежала, потому что становилось совсем светло.
ЧУЖИЕ
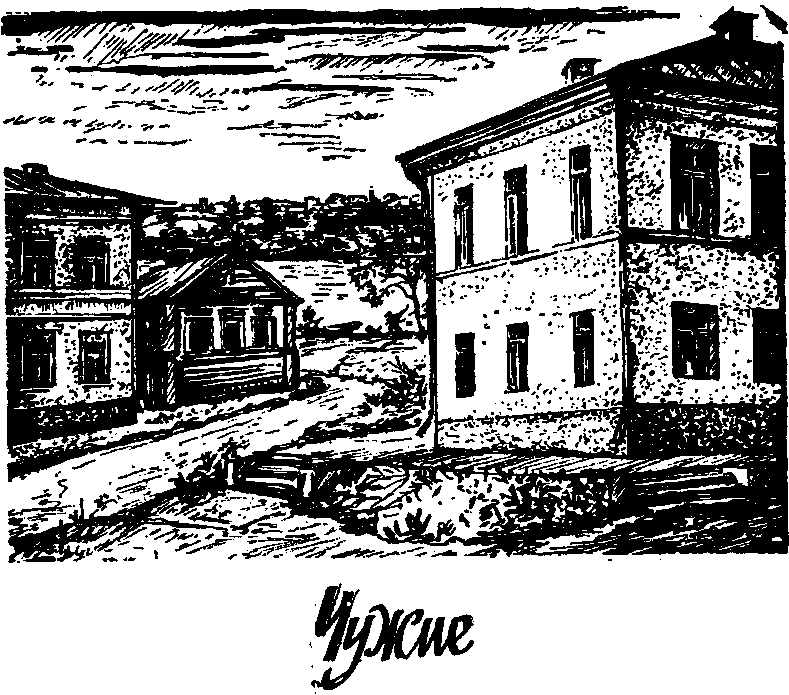
Зима показалась Виктору долгой, тягостной, ничего хорошего в ней не запомнилось, и жилось словно бы во сне: с работы да на работу — привычно и безрадостно. Оставаться одному вечером в осиротевшей квартире было невыносимо, потому что в голову лезли одни и те же мысли, и он часто ходил к Лопатиным, скучал и там, но за чаем, до которого родители Ларисы были большие охотники, да за разговорами быстрее проходило время, и, возвращаясь поздно домой, он был доволен, что прошел еще один день.
В феврале был год по матери; из Пустошки приезжал отец, снова приглашал в гости, просил не забывать и смотрел при этом на сына виноватым взглядом, будто бы он, а не пьяный шофер сбил мать на дороге. Отец как-то быстро старел, становился седым и печальным, и Виктору было жаль его, но от приглашения он отказался. Обижать отца не хотелось, и он сослался на то, что много работы.
— Да-да, — отвечал отец тихо и грустно. — Я понимаю.
Похоже, он понимал на самом деле, потому что начинал говорить о своей жене, о том, что она, в сущности, неплохой человек и по-доброму относится к нему, к Виктору.
— Командует, правда, много, — добавил отец, едва приметно улыбнувшись. — Да что поделаешь, привыкла в школе...
Слушая отца, Виктор думал о том, что не поедет в Пустошку никогда; в детстве он бывал там летом, и воспоминания остались хорошими, но теперь как-то все поменялось, и ему не хотелось видеть ни жену отца, работавшую в школе учительницей пения, ни его сыновей, ни соседа Леню, прозванного Часовщик. Мастеру этому было под шестьдесят, но отчего-то к нему обращались по имени. Виктор, бывало, засиживался у него, наблюдая, как тот возится со всяким старьем: с будильниками, примусами.
Отец оставил их с матерью давно, почти двадцать лет назад, и возможно, был более счастлив в новой семье, хотя Виктор помнил, как новая жена однажды упрекала его, говоря, что если бы не вышла замуж, то добилась бы чего-то большего в жизни. Разговор этот помнился смутно, но теперь отчего-то пришел в голову, и, глядя на отца, Виктор подумал, что если бы тот не оставил их, то мать не погибла бы и все было по-другому. «Возможно, — едва не сказал он вслух, — да что теперь думать...»
Казалось, лишившись матери, он должен был потянуться к отцу — единственному родному человеку, но ничего подобного не происходило, он не ощущал в своей душе любви и смотрел на отца так, как на других людей, понимая, что и отец, наверное, не испытывает сильного родства, а приглашает из жалости.
Думать об этом не хотелось — и без того было тяжело: вспоминалась мать, похороны и суд. Все это приходило как в тумане, расплывчато, обрывками и приносило страшную усталость и пустоту. Он помнил, как к нему явились родители шофера и просили поговорить с судьями. Им казалось, если попросит он, то наказание будет меньше, Виктор ничего толком не понимал, не представлял, как он сможет говорить с судьями, и только смотрел на чужих людей, которые сидели в его комнате: мужчина все извинялся за то, что они пришли, и покашливал в кулак, а женщина плакала и время от времени повторяла;
— Я понимаю ваше горе, но он же не хотел!..
— Не хотел, — как эхо откликался мужчина. — Вы нас извините, но... Ему двадцать лет... и жизнь, можно сказать...
Женщина плакала, вытирала платочком слезы, а затем враз смолкла и сказала, что они заплатят, кивнула мужу, и тот вытащил пачку денег. Виктор отвел деньги рукой и выпроводил просителей, сказав, что ему все равно, какое будет наказание, — пусть и вовсе не судят их сына.
За этот год Виктор исхудал и осунулся, и, хотя ему было всего лишь двадцать семь, он выглядел гораздо старше: лицо строгое, глаза темные и грустные. Появилась привычка втягивать голову в плечи и сутулиться, что при его высоком росте было заметно. К тому же Виктор стал медлительнее и задумчивее, поскольку мысли его были грустными, и единственное место, где он немного забывался, была работа. Настраивая пианино, Виктор постукивал по клавишам, слушал чистоту звука и старался думать только об этом. На фабрике у него друзей не было, поскольку работал он не так давно, так что не с кем было отвести душу. Да и не особенно разговорчивым он был. Однажды, не выдержав, он хотел выговориться перед Ларисой, но та, даже не дослушав, обняла его и просюсюкала:
— Бедненький ты, бедненький...
Виктору стало противно, и он замолчал, а Лариса, почувствовав, что сказала не то и не так, засмеялась, словно обратила все в шутку, и серьезно предложила послушать романс. И поскольку Виктор не возразил, она уселась за пианино и дурным, срывающимся голосом запела. Виктор и раньше с трудом переносил ее «концерты», но теперь это показалось ему настолько отвратительным, что он не ходил к Лопатиным больше недели, хотя и сидеть дома было тяжело.
И все же после февраля его немного отпустило, и как-то в марте, возвращаясь с работы, он завернул на Невский и прошелся среди людей. Так хорошо было идти в толчее, в шуме, и так ново показалось, что домой и вовсе расхотелось, и Виктор решил посидеть в скверике у театра. Скамейки были полупустые, кое-где под ними еще не истаяли остатки грязного льда. Голые деревья стояли в воде, а дорожки уже подсыхали. Ветер приносил еле уловимый запах талой воды, свежести: чувствовалась весна. Да и воздух был синим, по-весеннему прозрачным. Заходило солнце, близился вечер, и становилось прохладно. В трехэтажном красном доме, на который как раз смотрел Виктор, зажглись два окна, и это его отчего-то обрадовало. Да и все его радовало сегодня: и то, что он завернул на Невский, и толчея, и ощущение весны: все это увиделось и почувствовалось остро, резко, словно бы впервые, и стало вдруг легко.
Виктор вздохнул глубоко, подумав, что зима прошла, а с нею — и год жизни, что теперь все будет не так, что надо немедленно куда-то идти, что-то делать. Он почувствовал, как страшно захотелось жить, и это было так неожиданно после долгих месяцев, что у него даже сердце забилось сильнее... Он сразу же вспомнил о Ларисе, подумав, как было бы хорошо, если бы она оказалась теперь рядом. Виктор улыбнулся своим мыслям: Лариса в это время бежала, наверное, в филармонию; у нее был куплен абонемент, и она не пропускала ни одного концерта.