ИЗМЕНА
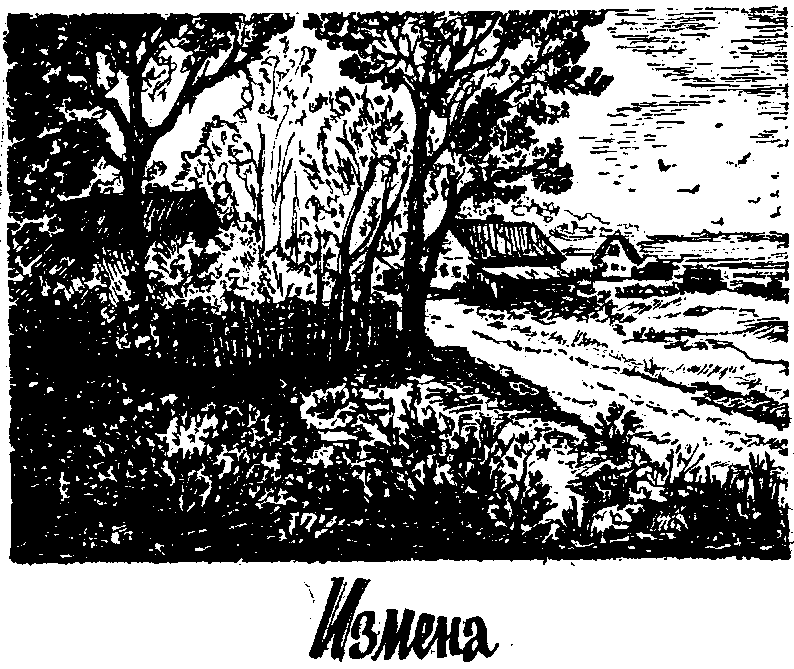
Ночи светлые по весне, лунные и не холодные; белеют в темноте расцветшие вишни, тонко пахнет их кипень, и кажется, над садами повис клочьями сизый туман. Тишина стоит и покой. Отдает теплом прогретая, за день земля, трава — свежестью. Ожившие деревья выпустили молодые клейкие листья, от которых пахнет живицей. Носится в воздухе едва уловимый запах дыма. Прекрасные ночи; в эту пору влюбляются, кто еще не любил, и вздыхают те, кто никогда больше любить не будет, вспоминают жизнь свою и говорят о скорых свадьбах. Может, поэтому нарядные вишни напоминают невест в подвенечных уборах, белые стоят, тихие, словно бы говорят, что быстро облетает цвет, быстро мелькают годы и короток их век... Чего только не передумаешь, глядя на застывшие под лунным светом привольные сады.
Вот как раз в такое время, возвращаясь от кумы поздно вечером, Мария Трихлебова, по прозвищу Маня-грех, приметила своего соседа Сашку Ломакина, стоявшего под забором в обнимку с какой-то женщиной. Женщину Маня не распознала, потому что та спрятала лицо на груди Сашки. А Сашка тихо сказал что-то и взглянул на Маню как на привидение. Она отвернулась и пошла себе дальше.
Маня, как большинство жителей поселка, отличалась зоркостью и здравым рассудком и, пока шагала до своих ворот, совершенно справедливо рассудила, что если Сашка, приехавший к родителям на неделю, обнимается у забора под вишнями, то с ним не может быть никто, как только Лида Безуглая. От такой догадки Маня чуть не вскрикнула: у Лиды был сын и муж Федор. Вот это новость! Маня подумала, с какой радостью донесет это событие куме; ей пришло в голову, что надо бы развернуться да сбегать сейчас же, она остановилась у калитки, помедлила, а затем вздохнула и пошла спать. Укладываясь, она еще какое-то время думала о Лиде, о Федоре, горестно вздыхала и спрашивала неизвестно кого — отчего людям не живется ладно да хорошо, — а после припомнила, как давным-давно стояла вот так под вишнями с Васильком. Вспоминала довольно равнодушно, потому что давно это было, а главное отболело все, ушло куда-то, и, задумавшись, не скажешь, было что или не было. Поэтому Маня думала о себе так, словно бы о ком другом... Накануне войны ей исполнилось семнадцать, свадьбу решили отгулять осенью, и она ждала этого дня. Но в июне закрутилось все — началась война. Василька забрали, и она, провожая со слезами, обещала ждать его возвращения. Тогда казалось, война скоро кончится, но повернулось по-другому. Натерпелась Маня, настрадалась, чудом избежала рабства в чужой неметчине, потеряла родителей, погибших под одной бомбой, помыкалась по чужим углам.
Василек так и не вернулся, пропал без вести. В это поверили все, кроме Мани: она ждала, уверяла, что жив ее суженый и непременно придет, и отказывалась выйти замуж. А тут как раз по поселку слух прошел, что в соседней Григоровке объявился фронтовик, которого давно считали погибшим.
— Слышали, пришел? — говорила Маня на работе. — Потому как верили...
Она сходила в Григоровку поглядеть на фронтовика, и вера ее в то, что Василек жив, еще больше окрепла. Часто думала о том, что его ранили, отбили ему память и, вылечившись, он не знает, где его дом. Думала Маня ночами, потому что днем было не до того — работала. Устроилась она тогда на удивление хорошо, на железнодорожную станцию. Работа была тяжелая и грязная, но зато платили неплохо, да и уголь продавали. А с топливом тогда мучились, не было его, топлива, не было, и все: чем хочешь, тем и топи. От лопаты да лома она до того уматывалась, что даже ночью мерещились рельсы, шпалы и звенело в ушах. Но ночью приходили мысли о Васильке, и Маня вздыхала — если бы знала, куда идти и где искать, то пошла бы. Да куда пойдешь?.. Оставалось только ждать, и она ждала. А годы шли, вокруг подрастали молодые, а ей почти тридцать. Тут к ней и посватался один вдовец, оставшийся с малым дитем на руках. Она и слышать не хотела, но люди ее уговорили, разумно доказывая, что Василек ее погиб и никогда больше не вернется.
— Как это не вернется? — удивлялась Маня на такие слова. — Непременно вернется.
— Опять ты за свое! — сердилась какая-нибудь соседка. — Счастье тебе выпало, человек добрый, берет тебя...
— А придет он, что я скажу?
— Оттуда не приходят.
— И такое вы говорите, — не соглашалась Маня, стеснительно улыбаясь и не понимая, как это можно плести несуразности. — Вот в Григоровку вернулся...
Что тут скажешь, что ответишь? А ничего, только рукой махнешь. Однако женщины — народ настырный, уговорили. Согласилась Маня на это замужество, но, когда пришли в поселковый Совет, снова за свое:
— Грех, — сказала. — Я обещала ждать.
Это уж ни в какие ворота не лезло, и кто-то выразительно покрутил пальцем у виска, давая понять, что Маня не в себе. Снова ее уговаривали, нажимая на то, что ребенок остался без матери. Маня отвечала, что готова взять сироту, выкормить и вырастить, но замуж не пойдет. После этого ее и прозвали Маня-грех, махнули на нее рукой, и добровольные сваты и свахи отступились от нее навсегда. И наверное, мало кто понял, что была Маня в своем уме, но она слишком долго ждала и без этого ожидания своей жизни уже не представляла.
Утром Маня все же не утерпела и рассказала куме, что видела вчера вечером: Федор, значит, ревновал не зря. Кума выслушала и осталась совершенно спокойная. Впрочем, она вообще редко волновалась, можно сказать, не волновалась вовсе.
— Ты лица-то не углядела, — проговорила она не сразу и вроде бы даже сердито. — А что, если не она? Мало ли у нас девок...
— Да Лидка это была, Лидка, — настаивала Маня. — С кем же еще он мог стоять? Сама прикинь.
Кума прикинула, но промолчала.
— Люди не напрасно говорили, — продолжала Маня, чувствуя свою правоту. — Знать, что-то между ними...
— Ты вот что, — сердито перебила кума, — выкинь это из головы и не вспоминай. На тебя тоже всякое говорили, не забыла? И те же люди, потому что людям только дай поговорить.
И кума взглянула на нее так, словно бы предлагала вспомнить кое-что. Взгляд был сердитый и немного насмешливый.
— Да то так, — сразу согласилась Маня, правильно поняв взгляд кумы. — Люди... Они скажут, а лучше бы на себя поглядели.
— Вот-вот, до Федора дойдет слух — скандал будет...
— Скандал, — повторила Маня и зачастила: — Не видела, не знаю. Только тебе сказала. Не видела, не знаю. Да и не присматривалась. А чего не видела, говорить не буду.
С этим успокоенная Маня отправилась к себе домой, думая по дороге о том, что если кто чего толком не видел и не знает, то и говорить не должен. «Нечего напраслину возводить!» — решила она, и тут же ей пришло в голову, что с Сашкой стояла Лида — и никто другой. Маня даже рукой взмахнула, отгоняя назойливую мысль, а после, занявшись домашними делами, позабыла и Лиду, и Федора, и свой разговор с кумой. Так все это и осталось тайной, хотя тайн в поселке не водилось: если бы сказать кому, засмеяли бы. В поселке становится известным решительно все, и если случается какая новость, то облетает она дома с поразительной быстротой. Привезут, к примеру, что-нибудь в магазин на одном краю поселка, а через пять минут об этом говорят на другом. И диву даешься: ни тебе телефона в домах, ни какой-нибудь иной современной связи. А ведь из конца в конец поселка даже при хорошей погоде требуется не менее часа. Как узнают? Как долетает?.. Необъяснимо. И уж вовсе необъяснимо, что порой становится известным то, о чем говорят муж с женой наедине. Чтобы подслушивал кто — нет, в поселке это не принято, а вот же известно. И думай как хочешь.
Шесть лет назад приехал в поселок на время уборочной Федор Безуглый да и остался насовсем. Не работа его прельстила — работы везде хватает, и, как говорят, была бы шея, — и не поселок ему приглянулся, а приворожила его Лида Панчишная, старшая дочь Платона Спиридоновича, плотника по призванию и доброго человека. Платон Спиридонович в поселке был известен тем, что умел крепко связать рамы для окон, не брал за работу лишнего и мог любое событие выразить одним словом. И словом точным. А это, как ни говорите, талант. Но дело, конечно, не в Платоне Спиридоновиче, хотя он личность преинтереснейшая, и надо только однажды увидеть его, чтобы это понять: как все плотники в поселке, Платон Спиридонович любит выпить и пофилософствовать о жизни, и иногда повернет это таким образом, что слушаешь и диву даешься — откуда столько мудрости в человеке. Особенно любил Платон Спиридонович поговорить о своем «коллективе» — так он называл домашних. Да и то: три дочери, Лида работает, а две другие еще в школу ходят; прикиньте к ним жену Пашу Ивановну, и забот наберется немало. «Коллектив» этот, как справедливо определял Платон Спиридонович, выходил женским и... неустойчивым. Так одним словом он дал характеристику и убеждался в своей правоте всякий раз, появляясь дома навеселе и наблюдая, как дочери расходятся во мнениях. Самая младшая его защищала, средняя повторяла слова матери, а Лида ничего не говорила, только грустно смотрела на отца. По характеру она была спокойная, добрая, и за эту доброту Платон Спиридонович любил ее больше других. О Паше Ивановне можно не говорить, поскольку Паша Ивановна — жена, и этим сказано все.