И думал я еще о нашей тяге
к поэзии... О, сколько чистых душ
к ней тянется, а вовсе не стиляги,
не «толпы истерических кликуш»!
И стыдны строчки ложные, пустые,
когда везде - и у костров таких -
стихи читает чуть не вся Россия
и чуть не пол-России пишет их.
Я вспомнил, как в такси московском ночью,
вбирая мир в усталые глаза,
немолодой шофер, дымивший молча,
мне прочитал свой стих, не тормозя:
«Жизнь прошла... Закрылись карусели...
Ну, а я не знаю, как мне быть.
Я б сумел тебя, Сергей Есенин,
не в стихах - так в петле заменить!»
И пишут, пишут - пусть корявым слогом, -
но морщиться надменно, право, грех,
и если нам дано хоть малость богом,
то мы должны писать за всех, для всех!
Ведь в том, что называют графоманством,
Россия рвется, мучась и любя,
тайком, тихонько или громогласно,
но выразить, но выразить себя!
Так думал я, и, завершая праздник,
мы пели песни дальней старины
и много прочих песен - самых разных,
да и - «Хотят ли русские войны?...».
И, черное таежное мерцанье
глазами Робеспьера просверлив,
бледнея и горя, болгарин Цанев
читал нам свой неистовый верлибр:
«Живу ли я?
«Конечно...» - успокаивает Дарвин.
Живу ли я?
«Не знаю...» - улыбается Сократ.
Живу ли я?
«Надо жить!» - кричит Маяковский
и предлагает мне свое оружие,
чтобы проверить, живу ли я».
Кругом гудели сосны в исступленье,
и дождь шипел, на угли морося,
а мы, смыкаясь, будто в наступленье,
запели под гитару Марчука:
«Но если вдруг когда-нибудь
мне уберечься не удастся,
какое б новое сраженье
ни покачнуло шар земной,
я все равно паду на той,
на той, далекой,
на гражданской,
и комиссары в пыльных шлемах
склонятся молча надо мной...»4
И, появившись к нам на песню сами,
передо мной - уже в который раз! -
в тех пыльных шлемах встали комиссары,
неотвратимо вглядываясь в нас.
Они глядели строго, непреложно,
и было слышно мне, как ГЭС гремит
в осмысленном величии - над ложным,
бессмысленным величьем пирамид.
И, как самой России повеленье
не променять идею на слова,
глядели Пушкин, и Толстой, и Ленин,
и Стенькина шальная голова.
Я счастлив, что в России я родился
со Стенькиной шальною головой.
Мне в Братской ГЭС мерцающе раскрылся,
Россия, материнский образ твой.
4 Б.Окуджава
Сгибаясь под кнутами столько лет,
голодная, разута и раздета,
ты сквозь страданья шла во имя света,
и, как любовь, ты выстрадала свет.
Еще немало на земле рабов,
еще не все надсмотрщики исчезли,
но ненависть всегда бессильна, если
не созерцает - борется любовь.
Нет чище и возвышенней судьбы -
всю жизнь отдать, не думая о славе,
чтоб на земле все люди были вправе
себе самим сказать: «Мы не рабы».
Братск - Усть-Илим - Суханово - Сенеж - Братск - Москва
1964
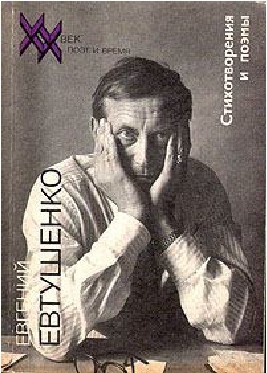
Евгений Евтушенко
Северная надбавка
ПОЭМА
1976–1977.
Журнал «Юность» № 6 1977 г.
За что эта северная надбавка!
За —
вдавливаемые
вьюгой
внутрь
глаза,
за —
мороза такие,
что кожа на лицах,
как будто кирза,
за —
ломающиеся,
залубеневшие торбаза,
за —
проваливающиеся
в лед
полоза,
за —
пустой рюкзак,
где лишь смерзшаяся сабза,
за —
сбрасываемые с вертолета груза,
где книг никаких,
за исключением двухсот пятидесяти экземпляров
научной брошюры
«Ядовитое пресмыкающееся наших пустынь —
гюрза…»
2
«А вот пива,
товарищ начальник,
не сбросят, небось, ни раза…»
«Да если вам сбросить его —
разобьется…»
«Ну хоть полизать,
когда разольется.
А правда, товарищ начальник,
в Америке — пиво в железных банках!»
«Это для тех,
у кого есть валюта в банках…»
«А будет у нас «Жигулевское»,
которое не разбивается!»
«Не все, товарищи, сразу…
Промышленность развивается».
И тогда возникает
северная тоска по пиву,
по русскому —
с кружечкой,
с воблочкой
— пиру.
И начинают:
«Когда и где
последний раз
я его…
того…
Да, боже мой, братцы, —
в Караганде!
Лет десять назад всего…»
Теперь у парня в руках
весь барак:
«А как!»
«Иду я с шабашки
и вижу —
цистерна,
такая бокастая,
рыжая стерва,
Я к ней — без порыва.
Ну, думаю, знаю я вас:
написано «Пиво»,
а вряд ли и квас…»
Барак замирает,
как цирк-шапито:
«А дальше-то что!»
«Я стал притворяться,
как будто бы мне все равно.
Беру себе кружечку, братцы,
И — гадом я буду — оно!»
«Холодное?» —
глубокомысленно
вопрос, как сухой наждачок.
«Холеное…»
«А не прокислое?»
«Ни боже мой —
свежачок!»
«А очередь!»
«Никакошенькой!»,
и вдруг пробасил борода,
рассказчика враз укокошивший:
«Какое же пиво тогда?
Без очереди трудящихся
какой же у пива вкус!
А вот постоишь три часика
и столько мотаешь на ус…
Такое общество избранное,
хотя и табачный чад.
Такие мысли, не изданные
в газетах, где воблы торчат.
Свободный обмен информацией,
свободный обмен идей.
Ссорит нас водка, братцы,
пиво сближает людей,.»
Но барак,
притворившийся только, что спит:
«А спирт?»
И засыпает барак на обрыве,
своими снами
от вьюги храним,
и радужное,
как наклейка на пиве,
сиянье северное
над ним.
А когда открывается
навигация,
на первый,
ободранный о льдины пароход,
на лодках
угрожающе
надвигается,
размахивая сотенными,
обеспивевший народ,
и вздрагивает мир
от накопившегося пыла:
«Пива!
Пива!»
3
Я уплывал
на одном из таких пароходов.
Едва успевший в каюту влезть,
сосед, чтобы главного не прохлопать,
Хрипло выдохнул:
«Пиво есть?»
«Есть», — я ответил,
«А сколько ящиков?» —
последовал северный крупный вопрос,
и целых три ящика
настоящего
живого пива
буфетчик внес.
Закуской были консервные мидии.
Под сонное бульканье за кормой
с бульканьем
пил из бутылок невидимых
и ночью
сосед невидимый мой.
А утром,
способный уже для бесед,
такую исповедь
выдал сосед:
«Летать Аэрофлотом?
Мы лучше обождем.
Мы мерзли по мерзлотам
не за его боржом.
Я сяду лучше в поезд
«Владивосток — Москва»,
и я о брюшную полость
себе налью пивка.
Сольцой, чтоб зашипело!
Найду себе дружков,
чтоб теплая капелла
запела бы с боков.
С подобием улыбки
сквозь пенистый фужер
увижу я Подлипки,
как будто бы Танжер.
Аккредитивы в пояс
зашил я глубоко,
но мой финкарь пропорист —
отпарывать легко.
Куплю в комиссионке
костюм- сплошной кремплин.
Заахают девчонки,
но это лишь трамплин.
Я в первом туалете
носки себе сменю.
Двадцатое столетье
раскрою, как меню.
Пять лет я торопился
на этот пир горой.
Попользую я «пильзен»,
попраздную «праздрой».
Потом, конечно, в Сочи
с компашкой закачусь —
там погуляю сочно
от самых полных чувств.
Спроворит, как по нотам,
футбольнейший подкат
официант с блокнотом: