И вдруг до Васюткина дошло:
«Да ведь это тот человек, который шнурок на ботинке завязывал там, на траве».
И Васюткина словно стрелой пронзило:
«А что, если все здесь сидящие вдруг догадаются, что это мои слова?.. „Вот-те и остряк, — скажут они, — а мы-то думали…“
Ну, а если они сами не догадаются, разве не может этот клоун в конце хладнокровно прибавить:
„Вот какие мысли у рвача и симулянта Васюткина с шестого строительного участка“.
Однажды ведь уже драмкружок разыграл так бригадира…»
Васюткину начало казаться, что клоун все время смотрит на него и вот-вот крикнет:
«Эй, Васюткин с шестого участка!»
И тут ему вспомнилось, что бригадир, который неоднократно уже попадался за непристойные дела, имеет обыкновение, не дожидаясь, пока его другие ругать будут, сам выступать с покаянием: виноват, мол, братцы!.. И ему все сходит с рук… Не лучше ли и ему, Васюткину, пока еще клоун не назвал его имени, выступить и самому сознаться… Публики он не боится. Публика его уже знает. Она уже раз аплодировала ему сегодня.
Васюткин перескочил через барьер.
Какое вокруг море голов. Но Васюткину эти головы показались ненастоящими. Он шмыгнул носом.
Все головы вдруг поднялись. Раздался бурный хохот.
Васюткин видел вокруг бесчисленное множество голов — голов черных как смоль, голов русых, голов плешивых, голов в красных платочках.
И ко всем этим головам он обратился, как подобает оратору:
— Товарищи во всем цирке! Уважаемый комедиант перед вами представил только что нежелательную в нашем обществе личность… Это он все в точности срисовал с меня. А все тут смеялись. Что ж, смейтесь на здоровье. Я на вас не в обиде…
И вдруг он запнулся. Ни тпру, ни ну. Слова вымолвить не может. Захватило дыхание, как после большого глотка спирта…
Отдышавшись, он продолжал:
— Я сам себе, товарищи, противен. Мне стыдно за свою жену, за детей своих, которых я запятнал. — Эти слова он произнес помимо воли, они сами собой пришли на язык, и он опасался, что других слов он так скоро не найдет. — Мне стыдно перед рабочим классом… Правильно поступили, что вывесили мое имя на черной доске… Товарищи! — произнес он еще громче. — Вот тут в третьем ряду сидит наш инженер. Я прошу у него прощения, что я не такой, как он, что я, можно сказать, мало ему помогал…
Публика уже не смеялась. Все аплодировали.
— Товарищи, — надрывался Васюткин, — в четвертом ряду сидит начальник рабоче-крестьянской милиции, герой гражданской войны. Я прошу прощения также у него…
Закончил Васюткин так:
— Прошу снова принять меня на работу.
И стараясь ни на кого не смотреть, стараясь никого не задеть, он вернулся на свое место.
Теперь уже сосед-мастер навалился на его, Васюткина, плечо, но Васюткин сидел не проронив ни слова.
Кончилось представление. Сосед вышел первым.
Так они и шли — мастер впереди на несколько шагов, за ним — Васюткин.
На небе полным ходом шла ночная смена. Небо все было усыпано мерцающими звездочками, словно искрами от огненных столбов, вылетающих из раскаленной пасти огромной коксовой печи.
Они шли и молчали.
Васюткину казалось, что все люди, проходящие мимо, кивают ему, хотят сказать ему что-то на ухо.
Вдруг он явственно услышал голос мастера:
— Придешь завтра утром к блюмингу.
И больше мастер ничего не сказал.
Но Васюткин понял, почему он так долго и упорно молчал. Он, должно быть, долго взвешивал, стоит ли говорить то, что он сказал…
Ярко светился город. Нигде не было таких огней, как в этом городе, над которым небо накалено добела и в котором нет ни одной церкви.
— До свидания, — сказал Васюткин, сворачивая к своему бараку.
— До завтра, — ответил ему мастер.
Пусть все радуются
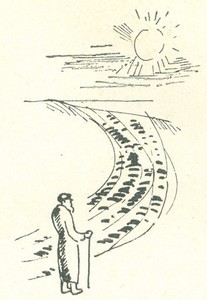
В субботу, когда он не работает, старый Бере, он все же не может усидеть дома и уходит осматривать поля. Он ходит, а в голове у него субботние мысли. В будни он о другом думает.
Субботняя мысль: вся жизнь произрастает из земли. Мы питаемся ее соками. Если бы все люди обрабатывали землю, тогда всем известно было бы, откуда жизнь, тогда, может быть, знали бы, как нужно жить, и было бы тогда хорошо на свете, и не было бы никакой опасности войны.
И бывает, что, блуждая так по полям, он встречает дочь свою с Ерошкой, с комсомольцем из деревни. Близко подойти к ним старику не подобает, но он издали следит за ними сердитыми отцовскими глазами.
А они притворяются, будто не видят его, сворачивают в сторону, и старику видны уже лишь спины их. У Ерошки спина широкая, у дочки узенькие плечи.
Не нравятся старику эти встречи с Ерошкой. Рассказывает он об этом старухе. Не нравится это и старухе. Выговаривает она дочке. А дочка высмеивает своих стариков перед Ерошкой. Нравится это Ерошке, и он смеется.
Однажды приходит Ерошка и передает такую новость:
— Наша деревня хочет вступить в колхоз. Мы видим, что работаете вы неплохо. И нам хочется, чтобы наше было вашим и ваше — нашим. А машины, можно сказать, мы будем покупать вместе.
И реб Бере теперь ходит по полям, ходит и думает, что с хозяйственной точки зрения это, конечно, выгодно — чем больше хозяйство, тем лучше. «Евреи, — думает он, — такой древний народ, так много мытарились, а теперь вот, может, и кончатся все мучения. Их сыновья будут брать наших дочерей, и не надо будет больше думать „еврей — не еврей“, и заботиться будут только о работе».
Кто знает… может быть, это не так-то хорошо, но такова интернациональная линия, будут вариться все в одном котле, и еще будут гордиться, что происходят из единой интернациональной семьи.
«Со всеми, со всеми это произойдет», — думает старик, и тогда уж это не его личное дело, что дочь его идет за «нееврея».
И он доволен, старик, что теперь это уже не его забота.
И в ближайшую субботу, когда он вышел в поле развивать свои субботние мысли, он, увидев свою дочь с Ерошкой, надвинул козырек и притворился, будто ничего не видит.
Не его это забота, пусть все заботятся.
А если нужно радоваться, пусть все радуются.
От весны до осени

Сердца у деревьев из древесины, а у иных вместо сердца — дупло. Но и они знают, что такое весна. И они машут тысячами зеленых рук, приветствуя ее приход.
А у людей сердца из плоти, а рук у них только две. Поэтому они приветствуют весну всем существом, каждой кровинкой, сами иногда не сознавая, что за новый поток бурлит в них с приходом весны.
Проникла весна и в слесарную мастерскую. Солнце рассыпает видимые и невидимые лучи, и эти невидимые лучи пронизывают Файтеля, у которого глаза как бы ввинчены в металлическое лицо. Но сердце у Файтеля тоже из плоти, и в нем, в этом сердце, тоже что-то согрелось, что-то разлилось.
Что он знает, Файтель Блоз? Он работает у огня, на большой жаре. Из тысяч отверстий, из тысяч пор течет пот по телу. Может быть, поэтому и внутри что-то разливается. Особенно копаться в своей душе ему неохота. Зачем? Что, кроме копоти, найдешь на сердце!
Но, помимо желания, — он даже не думал об этом — у него раскрылись шире глаза, и он заметил ее, Броньку, новую ученицу и единственную женщину в мастерской.
Он глянул — так себе. Девушка-слесарь. Это ему нравится. Он видел как-то девушку, гонявшую голубей. И это ему тоже понравилось. Ему нравится, когда девушка делает мужскую работу. Но только ли это ему нравится в Броньке?.. Больше копаться в себе он не хочет. Вдруг под копотью и сердце обнаружится.
А Бронька — девушка хорошая. Как все голубоглазые, которые одной рукой отталкивают, а обеими притягивают, которые в шутку сердятся и всерьез целуют.