— Что у вас украл Солико, батюшка?
Ответил ему Годердзи:
— Балки украл. Увез из лесу запасенные Ванкой обтесанные потолочные балки.
— Когда это?
— Вскоре после того, как установилась наша власть.
— Ну и что потом было?
— А было то, что Ванка пришел к Солико, вызвал его во двор и говорит: «Ты, бессовестный, привези ко мне сам, по своей воле, мои балки, украденные тобой из лесу, а не то прокляну так, что скрючит тебя и сгниешь заживо».
— Ну, а дальше?
— Дальше — сам понимаешь, что ему мог ответить этакий молодец, да еще загордившийся по тем временам…
— Что же он ответил?
— Черта ты, мол, скрючишь и дьявола сгноишь. Теперь, дескать, не те времена, когда ты под дудочку ишаков объезжал. Теперь все, что было твое, стало моим!
Шавлего смеялся.
— Слышал я краем уха, будто он в тюрьму угодил. Где он сейчас?
— Сослали его, загнали куда-то в дальние края, на север.
— Пусть Илья-пророк поразит громом его дубовую башку и пусть он никогда не возвратится оттуда! — прошипел поп.
— Где все твои дружки? Миха не мог раздобыть в деревне то, что тебе нужно? А Хатилеция где? Как говорится, «там, где выше дым над крышей»?
— Миха ничего не может сделать, а Ило вот уж третий день нигде найти не могу, — ответил Ванка.
— А в Алаверди к тебе дорожка заросла?
Священник встал и оправил рясу.
— Все измошенничались еще пуще, чем ты.
— Вот настанет алавердский престольный праздник, поп, тогда набьешь себе зоб до отказа.
— Хоть бы в году насчитывалось двенадцать алавердских праздников — то-то было бы хорошо, старый хрыч!
— Эх ты, разбойник без ружья! А одного разве не достаточно?
— Мажет, даже и с лихвой, — вставил Шавлего.
— Пусть только наступит праздник — чтоб я вас там не видел, ни одного, ни другого! Жердью ноги переломаю! Не даешь? Ну и ладно. Чтоб оно у тебя скисло и в уксус превратилось!
Священник спустился по лестнице и прикрикнул на кинувшегося к нему пса.
— Остался бы поужинать, Ванка!
— Спасибо тебе, старичина. Я уже давно отужинал.
Шавлего в три прыжка догнал гостя и проводил его до ворот.
— Чего это Ванка у тебя просил? — поинтересовался он, вернувшись на балкон.
— Вино ему понадобилось. Продай, говорит, или одолжи.
— Но ведь у тебя нет!
— Я так ему и сказал, да он не верит. Пристал с ножом к горлу. Точно я весь урожай из виноградников князя Вахвахишвили к себе в погреба свез.
— А, собственно, как это можно, чтобы у грузина в доме не было своего вина?
— Да, конечно, если есть свой виноградник.
— Так ведь он у нас есть!
— Подумаешь, виноградник! Много ли с него получишь? Да председатель запросто дарит своим дружкам вдвое больше!
— Ох, дедушка, беспокойный ты человек! Сколько полагается, столько у нас и есть.
Годердзи отложил каламаиы и бросил на внука сердитый взгляд.
— Значит, по-твоему, мне больше иметь не положено? А кто раньше всех вступил в колхоз? Кто первым привел на колхозный двор отличнейшую лошадь, отборных буйволов? Кто объединил с соседями свои три десятины земли и обобществил все свое имущество? Я даже сбруи конской себе не оставил! Попросили дать на время — я одолжил, а ее затеряли и даже отказались стоимость возместить. Ну вот, теперь у меня тридцать пять соток, а те, у кого всегда было земли вдоволь, по-прежнему имеют куда больше, чем я. Одним оставили по семьдесят пять сотых гектара, а кое-кому и сверх того. Вы, молодые, особенно не задавайтесь. Высунетесь вперед и кричите — революцию, мол, мы сделали. А чего, собственно, вы глотку дерете? Мы делали революцию, а не вы. Где вы еще были, когда мы, словно звери, скрывались, рыскали по лесам? Это мы революцию сделали, мы меньшевиков прогнали, да только, клянусь своей головой, знал бы я, что попаду в руки к таким пиявкам, и пальцем не пошевелил бы! Ну, скажи на милость, где тут равенство? И у одного, и у другого шурина Нико такие большие виноградники, что они их и обработать не в силах. А мне подбросили участок с пятачок — от одного края до другого доплюнуть можно. И у многих других порядочные угодья, а ты присмотрись — хоть один из них выйдет на работу в колхоз, прежде чем управится со своим хозяйством? Нет, они еще не посходили с ума. Колхоз у нас, правда, не богат землей, но и с той площади, какая есть, если ее хорошо обрабатывать, можно получать впятеро против нынешнего, а то и еще больше.
— Чего только ты не выдумаешь, дедушка!
— Я выдумываю? Ничего я не выдумываю, дубина! — вспыхнул старик. — Все, что я говорю, — чистая правда! Ты вот погуливаешь на воле, гриву по плечам разметал, а попробуй, приглядись к жизни, вдумайся поглубже. Откуда оно берется, все, что у нас есть, — с неба сыпется по божьей воле? Или Берхева приносит нам дары в половодье? Земли пахотной у меня нет, и рабочих рук в доме не осталось, чтобы пахать и сеять. — Старик смачно выругался. — Сами на «Победе», как господа, разъезжают, а я, если не выкормлю кабана, зиму и лето буду без каламан, босиком ходить. Все равны! Как бы не так! Все равны там, на горе, — старик указал палочкой в сторону деревенского кладбища. — А впрочем, и на погосте нет равенства — одни под мраморными плитами да расписными памятниками покоятся, а у иных могилы даже простым камнем не отмечены. Ты думаешь, я меньше других работаю? Зайди разок в контору — просто так, прогуляйся, и загляни, проверь, у кого больше трудодней, чем у меня. Ох уж эти пиявки! Добраться бы до них, я-то знаю, как кровь из них выпустить.
Шавлего улыбнулся и ласково потрепал по плечу рассерженного старика:
— Прошли те времена, дедушка, когда твоя берданка гремела в лесах. И огорчаться тебе не из-за чего. Потерпи немного — будет и у нас своя машина. А теперь ступай, ложись спать, ночи летом коротки. Я немножко поработаю и тоже лягу.
— Ты меня не учи. Какие летом ночи, я знал, когда тебя еще и на свете не было! — Старик проводил уходящего внука сердитым взглядом из-под косматых бровей и, невольно засмотревшись на рослого, плечистого молодца, с гордостью подумал: «Смотрю на него — свою молодость вспоминаю… Парень — вылитый отец! Вот только ума в голове нет. Эх, — махнул рукой Годердзи, возвращаясь к своим каламанам, — у нынешней молодежи в жилах не кровь, а тепленькая водица!»
Шавлего прошел в маленькую комнату, снял с книжной полки сборник академика Шанидзе «Хевсурская народная поэзия», раскрыл его на заложенной странице и отодвинул чуть подальше от себя горевшую на столе лампу.
Глава четвертая
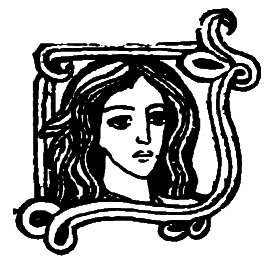
1
«Победа» оставила позади себя, в Чалиспири, хвост из поднятой ею пыли и вылетела на простор полей.
С обеих сторон дороги убегали вереницей назад длинноногие тополя, простоволосые ивы, стройные сливы и могучие орехи.
Ветер врывался в спущенные окна машины.
— Езжайте потише, Купрача, — сказал пассажир, сидевший рядом с водителем, — а то при такой скорости я не сумею хорошенько разглядеть Алазанскую долину. Странно, — добавил он, усмехнувшись, — почему вас называют Купрачой, что это за прозвище?
— Сам не знаю. Но привык к нему так, что, если по имени позовут, иной раз и не откликнусь. А ты зачем в Алвани едешь — за поживой?
— Пожива всюду найдется. А в Алвани я еду для того, чтобы написать радиоочерк о передовых овцеводах. Расход все равно тот же. Раз уж я здесь, то, как говорится, и жеребца объезжу, и тетушку повидаю.
— Тетушку повидать — дело простое. А вот насчет того, чтобы объездить жеребца… это будет потруднее. Есть у нас тут хорошая пословица: «Ты сыграй мне на чонгури, а уж я тебе спляшу». А почему редактор нашей газеты сам не приехал?
— Что, очень хочешь его повидать? — засмеялся корреспондент. — Соскучился?
— А почему бы и нет? Нравятся мне смелые люди. Сколько ни встречал я в своей жизни людей, он единственный, с кем я не сумел договориться. Ничем его не проймешь — ни словом, ни делом. По пятам за мной всюду ходил, все хотел на чем-нибудь подловить, да не вышло. Но и я его ухватить не сумел. Ну как с человеком сладить или поладить, ежели он вина не пьет? Желудок, дескать, больной. Хоть бы разок разболелся по-настоящему да спровадил своего хозяина на тот свет!