Вышел нынче на реку. Не река — море бескрайнее. Можно трогаться дальше. Лед сошел. Полагаю, лодки три хватит. Мой молодой друг Петька не отходит ни на шаг. Всякую ласку ценит, а тут его добротой не балуют. Просился, чтобы захватил его с собой на север. Не могу взять такого греха на душу. Сник мой казачонок. Велел ему не печалиться, а ждать нашего возвращения. Будет на то божья воля — вернемся. Признаться, я сам за столь небольшой срок к нему привык. С какой готовностью показал кумирню! Без него как бы добрался до Небдинских юрт? Отчаянный парнишка. Рано оставшись без родителей, обрел должную самостоятельность, что весьма ценно в людях. Петька — добр, неглуп. Готовый человек! Что-то будет с ним дальше? Думаю об этом не без грусти.
Шестые сутки малая экспедиция Зуева на трех просмоленных лодках шла к низовьям Оби.
Узенькое северное лето катилось к зениту. Срываешь после ночевки ягодки — проморожены, во рту оттаивают, холодя зубы. И еще пролетные птицы держали лето в тонких лапках. Гуменники, серые казарки, клекоты, визгуны полоскались на волнах, взмывали вверх, стряхивая брызги, и чучельник, отгадчик примет, видел в этом обещание большой воды, тепла.
Зуев греб наравне со всеми. Ладони — в кровавых пузырях. Перемотал руки тряпками, лицо до глаз укутал шерстяным платком.
— Эх, ты, — добродушно издевался Шумский, — сам-питерской…
— Холодно-о-о, — ежился Зуев.
Ерофеев посматривал на Василия, размышлял: «Ну, немчура. Никакого понятия. Герр Паллас… Нашел кого снарядить в предводители. Соколова послать — иное дело. Мужчина. А этот? Смех и грех. Тьфу».
— Холодно ему, — дразнился Шумский. — На чучелу ты теперь похож. — И набрасывал на Васины ноги разного тряпья.
Не унывает старик. Тряхнет бородой с сосулями, словно конь уздой, любуется птичьими стаями. В детстве во время молотьбы, рассказывал, при виде гусей ребята, взявшись за руки, припевали: «Летят гуски, дубовы носки, говорят гуски: чокот, чокот, чокотушечки…»
— Цокот, цокот, цокотушечки, — подхватывает Вану. Ему холод нипочем, щеки задубели.
Вася тоже повторяет детскую песенку Шуйского, и эти слова отогревают онемевшие губы.
Рядом заплескался гуменник, дикий небольшой гусь. Подплыл поближе. Шейка его была изогнута, как вопросительный знак. Гуменник точно знать хотел, что за люди сидят в лодках, куда ведет их речная дорога-га-га-га.
Вася улыбнулся. Так тепло стало на душе.
Тундра. Безлюдье. Чужбина. И вдруг птица с таким земным, ласковым, домашним именем. Гуменник… Само это слово как бы вобрало в себя сельское, шумное, пыльное гумно, неоглядное поле ржи, за которым на юру виден привычный ветряк.
Три лодки шли по течению Оби. В первой Зуев и Шумский, во второй — Вану и Ерофеев. Третья — бичевой: в ней провиант, вещи, ружья…
Волна за ночь успокоилась. Плеснула рыба — казалось, кто-то растопыренной ладонью шлепнул по быстрине.
— Умывается на зорьке, — сказал Шумский.
Большая часть пути по реке пройдена.
В Обдорском городке, прикидывал Зуев, задерживаться не станем. Выбрать добрых оленей, присмотреть крепкие нарты — и к морю!
Нет-нет да и взглянет на ломоносовский чертежик — Чаятельный берег, бережок…
Третьего дня в прозрачной, умытой от тумана синеве увидел отроги Уральских гор — казалось, стадо каменных мамонтов шествовало друг за дружкой к водопою. Как занавес, сдвинулся туман, смыл горы.
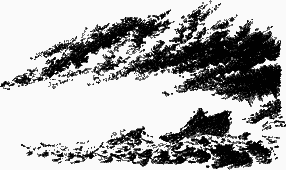
— Сколько же верст будет отсюда до Урала? — спросил Шумский.
— От Обдорска пойдем — вычислим.
— Ох ты господи! — вздохнул Шумский.
Зуев поежился. Только теперь воочию представил, что им предстоит.
— Там не пасется олень, там никого не увидишь, — крикнул Вану. — Там белый медведь, белый снег!
Река поворачивала к востоку, к южным границам Ямала, еще далее от зубцов Урала.
Да, никто из русских натуралистов еще не шел с востока к Уралу, к водам Ледяного моря… И это пространство было как пропасть. Сердце сжималось. Но Зуев ничем не обнаруживал тревожащих его мыслей.
Поскрипывали уключины. Унылую песенку тянул остяк. Он разгонял тоску, которая порою наваливалась на предводителя команды. В песенке говорилось, как они встретились в Тобольске, как Вану взялся вести Зуева и его товарищей на север — за пять рублей. Раз Зуеву надо — пусть идет. С таким проводником, как Вану, нечего бояться. Вану знает тундру, ее повадки. Вану любит людей-натуралисс. Пел о том, что, когда сполна получит денежки, станет богатым, женится, купит юрту и никогда не будет мочить кожи.
В мычании остяка был даже ритм, диктуемый броском весел.

Обь убыстрялась по мере приближения к низовьям. Погода менялась на дню несколько раз: какой ветер одолеет, возьмет верх. У каждого был свой цвет, запах. Ветер с Ямала лез за шиворот и под рубашкой оттаивал, как снег. С правого, лесистого — ветер был мягок и слегка колок, как ветка лапника. В нем слышалось дыхание тайги. У южного ветра — от Березова — рыбный дух; он нес морось, вода покрывалась мелкой рябью, словно дождик грибной прошелестел. Самым слабым, беспомощным был ветер с запада — уральские хребты не давали должного разгону.
В небольшой заводи, зацепившись за ветки, стоял плот с мачтой. А на мачте — разноцветные лоскуты, венки, шкурки. Зуев сразу узнал плавучее сооружение, отправленное в дар Чарас-Най. Подгребли поближе, Вася первым прыгнул на плот. Из всего богатства, дарованного покровительнице воды, не оказалось его малахая. Только шапкой, видать, и воспользовалась Чарас-Най.
— Лавка меховая! — восторгался Ерофеев. И сдернул с перекладины несколько шкурок.
— Не тронь, — крикнул Зуев. — Это священные дары эзингейцев.
— Ха, священные. Кому священные, а мы народ христианский.
— Ерофеев!
— Пропадет же задарма.
— Посуди, тебя б пустили в чужой дом на ночлег, а ты б начал набивать мешки чужим добром.
— Тундра медведю да бирюку дом родной, — сказал казак. Но спорить не стал, себе дороже. Ругнулся: «Пропади пропадом этот плот… Надоело. В Березове бы остаться… Чего дальше попер? Был вольным — стал подневольным. Сколько можно скитаться? И чего ради?» — Такие мысли чаще и чаще лезли в башку.
В другой раз путешественники стали свидетелями еще более поразительного зрелища. Прямо на берегу стояло несколько разодранных, покинутых чумов. В кострищах серел пепел, валялись головешки, оленьи рога. Еще недавно, судя но всему, тут жило племя. И вот — снялось. Тишина. Запустение.
Вану огляделся, побежал в сторону редкого березнячка. Позвал Зуева.
Свежесколоченный сруб, перевернутые нарты. И мертвый олень. В срубе — переломанные луки, стрелы, ножи, искромсанные сети, остроги, лыжи.
— Надо ж так вещи попортить, — вздохнул Шумский.
— Надо! — вскричал Вану. — На тот свет мертвого самоеда повезет мертвый олень. Самоед умер — вещи его тоже умерли.
— Поди ж ты…
Зуев подумал о том, как удивителен обряд, в котором сочеталось детское простодушие с поразительной верой в бессмертие.
— Мир праху твоему, — сказал Шумский и бросил горсть сырой земли в сруб.
Глава, в которой рассказывается, как Василий Зуев еще раз встретился с Эптухаем
По воде из Березова в Обдорский городок — пять дней пути. Но зуевская команда добиралась две недели. Ближе к северу Обь, соединив высокой водой бесчисленные свои протоки и рукава, становится безбрежной и неспокойной: крутая волна, штормовые ветры.
На высоком берегу завиделась сторожевая башня.
В Обдорском городке команда путешественников но нашла покоя. Едва зачалили лодки — услыхали доносящиеся сверху выстрелы. С деревянной крутой лесенки сбегал казак с мушкетом на спине.