Светлеет. Сцена пуста. На помосте стоит квадратная ваза из павильона. С левой стороны Фолькер проводит на сцену Карла Йозефа и Эдну Грубер.
Карл Йозеф. В Бремене в шестьдесят четвертом или шестьдесят пятом — я гастролировал в роли Дантона — играл у нас один молодой актер, который на одном спектакле… было этак уже четверть первого, «Смерть Дантона»{58}, такая подлость, ни один автобус больше не ходил, тут он вдруг подбегает к рампе, посередине реплики, и спрашивает прямо в зрительный зал, не подвезет ли его кто-нибудь после спектакля в Лезум{59}. Дело в том, что он там жил… Посередине реплики! Он малость перебрал. Тоже совсем молодой. Ну вот. Я выхожу из лаборатории. Подхожу твердым шагом к вазе, достаю оттуда лягушку. Текст, текст, текст. И немедленно — stante pede — исчезаю в своем кабинете.
Фолькер. Да — если уж вы это проделываете здесь, Карл, этот трюк с вазой, то со временем он, разумеется, потеряет свой блеск.
Карл Йозеф. То, что я делаю, дорогой, интересно будет смотреть и в восьмой раз, будьте уверены.
Из проема в стене осторожно выходит Зритель — Макс.
Зритель (тихо). Эй… эй!
Фолькер. Ты кто?
Эдна Грубер. Так вот где ты!
Зритель. Я? Нет. Это не я.
Эдна Грубер. Где же ты был перед репетицией? Я все время тебя ждала. (К остальным.) Извините меня. Я только одну минуту. Я должна сказать ему два слова.
Зритель. Нет! Я хочу выйти отсюда! Как попасть в гардероб? Пустите меня!
Фолькер. За пультом помрежа, вторая дверь налево. (Зритель поспешно удаляется.)
Эдна Грубер. Это невозможно! Не могла же я снова ошибиться в мужчине!
Гардероб снова выдвигается к рампе. Гардеробщица стоит с пальто зрителя в руках, готовая его встретить. Он выходит из распахнутой двери декорации.
Гардеробщица. Наконец-то вы явились! Я уже думала, вы забыли о нашем уговоре. Вы чуть ли не самый последний. Вы так долго аплодировали? Вам это в конце концов понравилось?
Зритель. О, не могу больше! Ради Бога! Прекратите! Хватит! Не хочу никаких любовных историй! Хочу домой! Никакой игры! Неужели это никогда не кончится?
Сзади него из двери, ведущей в зрительный зал, выходит Лена, проходит мимо него.
Лена! Спаси! Спаси же меня! (Срывает с себя парик, очки и одежду зрителя.) Я люблю тебя!.. Я люблю тебя! (Обнимает ее.)
Макс. Кошмар. Ад. Это был какой-то ад… (Лена отклеивает его бороду и целует его.) Пойдем чего-нибудь выпьем. Самое время.
Они уходят. Занавес опускается на гардероб, покрывая его, однако, лишь наполовину. На заднем плане слышны крики Фолькера на репетиции.
Фолькер. Макс! Макс! Ну где этот идиот? Макс! Твой выход!
Занавес снова идет вверх. Сцена выглядит как в начале пьесы, нет лишь режиссерского стола. На сцене стоит один Карл Йозеф. Слева входит Макс.
Макс. «Господин профессор Брюкнер?»
Карл Йозеф (поворачиваясь). «Да, что вам угодно?»
Макс. «Не знаю, помните ли вы еще меня?»
ЗАНАВЕС.
Время и комната{*}
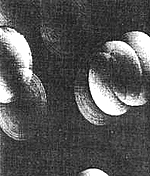
Юлиус.
Олаф.
Мария Штойбер.
Человек без часов.
Нетерпеливая.
Девушка с улицы.
Франк Арнольд.
Спящая.
Человек в зимнем пальто.
Совершенно незнакомый человек.
Акт первый
Комната с тремя огромными окнами, выходящими на улицу. На заднем плане — фасад противоположного дома. У среднего окна — небольшой стол и два кресла. Одно из них развернуто к окну, другое — внутрь комнаты. Налево — входная дверь и колонна, обшитая деревом. Направо дверь в другую комнату. В кресле, повернутом к окну, — Юлиус. В кресле, повернутом в комнату, — Олаф.
Юлиус. Ты сегодня еще не смотрел в окно…
Новогодние елки в феврале еще валяются на обочине. Ледяные лужицы прикрывают песок на мостовой, словно маслянистая пленка. Снег тает, обнажая обгоревшие новогодние хлопушки. И прошлогоднее собачье дерьмо. Воробьи с тупым остервенением клюют платановые шарики. Скрипят приводные ремни. Владельцы автомобилей на ночь перетаскивают аккумуляторы в тепло. Голуби стучат лапками по цинковой жести подоконников. Никчемные птахи. Сорняки небесные. От шума никуда не деться. Даже сквозь сон слышен далекий храп пневматических молотков. Совершенно непонятно, что сегодня за день. Может быть, самый хмурый в году. Но определенно на грани безысходности. Девушки отражаются в стеклах витрин, на ходу приглаживают волосы. Вот спешит одна, в короткой юбке — в такой-то холод! — в черных колготках, дышит в воротник своего золотисто-зеленого пуловера с люрексом. Хорошенькая, бестия. Страшная. Уже в походке что-то развязное, ленивое, что-то от бульварных журнальчиков, папильоточное, блеклое, как телевизионный экран… Рядом снуют молодые парни, в перемазанных комбинезонах и синих рабочих штанах, реставрируют флигель во дворе. Вот консьержи, с толстыми связками гремящих ключей на поясе. Нагружают маленькие фургончики и катят на автокаре, укрытом брезентом, за ворота. Они трудятся и в праздники, и в будни, без выходных, а вечерами, довольные собой, сидят со своими женами и овчарками по кабакам. Они наполовину бывшие консьержи, наполовину уже хозяева домов.
Звонок у входной двери. Юлиус нажимает кнопку под подоконником.
Входит Девушка с улицы.
Девушка с улицы. Это вы про меня сейчас говорили? Вы, да? Что вы тут сочиняете? Блеклое, как телевизионный экран, что-то от бульварных журнальчиков — вы же меня совсем не знаете. Увидели меня впервые и сразу даете уничтожающую оценку. Что вы знаете обо мне? Ничего. (Подходит к левому окну и смотрит на улицу.) Как прилетела — в аэропорту на транспортере сплошь одинаковые чемоданы. Найти свой невозможно. В конце концов я схватила первый попавшийся, я же не идиотка, чтобы толкаться в поисках собственного чемодана среди двух с половиной сотен взбешенных пассажиров. В зале ожидания спросила у какого-то мужчины, который выглядел так, как будто встречал именно меня: «Вы Франк Арнольд?». Он ответил: «Да», хотя это была неправда. Он просто каждый день торчал в аэропорту и подбирался к людям, которых должны были встретить и не встретили. И на любое имя, какое ему называли, отвечал: «Да, это я». (Закуривает сигарету, кладет дешевенькую зажигалку на подоконник.) К кому я только не подлаживалась! И к занудливым мужчинам, и к сентиментальным, и к деловым. Вникала в их проблемы. Изучала, перенимала, усваивала их взгляд на мир. Находила подход и к молчальникам, и к болтунам. Неудачника — ободряла, а для весельчака была подружкой-хохотушкой. Со спортсменом бегала за компанию, с пьяницей — пила. Ничего не осталось. Ни от кого. Ни следа. Но это было полезно для здоровья. Там я жадно черпала свое «я», там его и оставила… У вас здесь нет термометра, барометра, метеобудки?