Но окончании лицея, в 1817 году, он служил вместе с Пушкиным и Грибоедовым в Коллегии иностранных дел, тогда же преподавал русский и латинский языки в пансионе при Педагогическом институте. В это время Кюхельбекер активно сотрудничает в журналах, а в 1819 году вступает в «Вольное общество любителей российской словесности», объединявшее многих будущих декабристов. На одном из заседаний этого общества, 22 марта 1820 года, он огласил свое стихотворение «Поэты», написанное в защиту Пушкина, над которым нависла угроза высылки из столицы. На Кюхельбекера был подан донос, и, желая «скрыться куда-нибудь подальше», он отправляется в заграничное путешествие в качестве «секретаря и собеседника» мецената А. Л. Нарышкина.
Во время путешествия Кюхельбекер побывал в Германии, где познакомился с Гёте, в Италии. В 1821 году в Париже он прочитал цикл публичных лекций о русском языке и литературе, отмеченных духом декабризма. Лекции были запрещены, и Кюхельбекер вынужден вернуться в Россию. В 1822 году он недолгое время прослужил чиновником особых поручений при «проконсуле Кавказа» генерале А. П. Ермолове; это период наибольшей его близости с А. С. Грибоедовым.
В 1824–1826 годах Кюхельбекер вместе с В. Ф. Одоевским издает альманах «Мнемозина», во второй книжке которого публикует свою программную статью «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие». Тогда же работает над трагедией «Аргивяне» — значительнейшим произведением декабристской драматургии, многочисленными лирическими стихотворениями, поэмами, и по своей форме, и по тематике противостоящими камерным, элегическим жанрам поэзии тех лет.
Вступив за месяц до восстания декабристов в тайное Северное общество, Кюхельбекер активно участвует в событиях 14 декабря 1825 года: пытается стрелять в великого князя Михаила Павловича и в генерала Воинова, пробует поднять в атаку солдат Гвардейского экипажа. После разгрома восстания он стремился бежать за границу, но был задержан в Варшаве. Кюхельбекеру выносится смертный приговор, впоследствии замененный тюремным заключением и ссылкой в Сибирь. И в крепостях и на поселении он продолжает литературную деятельность, создает ряд значительных произведений в разных жанрах, большинство которых было опубликовано только в XX веке.
Европейские письма{59}
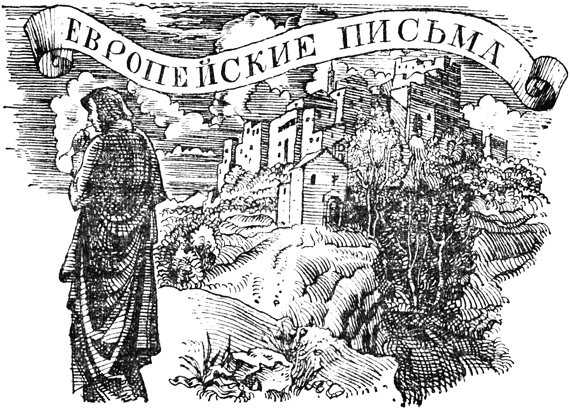
Архимед говорил: дайте мне точку вне земли, и я сдвину землю с ее оси. Сохрани нас боже от таковой мысли! Но чтоб судить о современных происшествиях, нравах и вероятных их последствиях, должно мысленно перенестись в другое время. В «Европейских письмах» мы предполагаем, рассматривая события, законы, страсти и обыкновения веков минувших, быстрым взглядом окинуть и наш век. Посему мы мысленно переносимся в будущее: американец, гражданин северных областей, путешествует в XXVI столетии по Европе; она уже снова одичала, и наблюдатель-странник пишет к своему другу о прошлой славе, о прошлом величии, о прошлом просвещении.
Кадикс, 1 июля 2519 года
Наконец я здесь, в стороне, из которой перелились в нашу часть света рабство и просвещение, убийства, грабеж, искусства и науки, инквизиция и кроткое Христово учение, — я в Европе.
Наше плавание было счастливо, и начальник парохода, на котором прибыли мы в Кадикс, уверяет, что давно уже не совершал столь успешного пути.
Вчера я представлялся старшине нашей здешней вашингтонской колонии. Он меня принял очень ласково и обещал мне дать проводников во внутренность Испании, в которую почти невозможно проникнуть, не подвергаясь величайшим опасностям.
Дикие гверилассы{60}, единственные обитатели сей страны, переходят с своими стадами из долины в долину и под предводительством отважных атаманов грабят мирных африканских купцов и путешественников. Единственное средство предохранить себя от их разбоев: у начальника ближайшей шайки брать провожатого, за которого вносить значительную сумму.
Я отправляюсь на следующей неделе; теперь на досуге перечитываю свои испанские и португальские книги. Более прочих обращают на себя мое внимание Камоэнс{61} и творец «Дон-Кишота»{62}. Конечно, первый далеко отстоит от Гомера, Виргилия и некоторых эпиков золотого века российской поэзии{63}; он по изобретению и плану — подражатель, но оригинал по своим смелым и диким изображениям, по своей резкой и мрачной рисовке. Он занимателен особенно для меня потому, что описывает Индию — край, в котором провел я молодость свою, в котором обогатился обширными познаниями и чистою, прелестною философиею. Гордое презрение, с которым поэт говорит об индостанцах, показывает, что он не мог предчувствовать будущего величия их, что он вовсе не имел понятия о древнем их просвещении. Признаюсь, любезный друг, что суеверие и жестокость, ознаменовавшие все предприятия испанцев и португальцев в Индии и Америке, противоречат понятию, которое мы, в счастливый век наш, имеем об истинной образованности. Имена Кортеца, Пизарро{64} и других опустошителей взвешивают имена Ласказаса{65}, Ксименеса{66}, Эмануила{67}. Конечно, теперешние испанцы не имеют театра, на котором представляли бы драматические произведения Калдерона{68} и Лопеца{69}; конечно, ни один из атаманов их не в состоянии построить огромного Эскуриала; но в замену у них нет теперь Торквемады{70}, нет костров для людей мыслящих, нет цепей для народов свободных и счастливых.
Древний Эскуриал, 20 июля
Заметим, что опасности и трудности в отдалении нам кажутся гораздо большими, нежели они вблизи и на самом деле. Гверилассы, которых мне описывали такими черными красками, меня везде принимали гостеприимно и дружески, — и я теперь живу посреди их в совершенной беспечности. Характер их почти тот же самый, каковой был за 600 лет перед сим. Гвериласс столько же горд, сколько предок его — древний кастилянец. У него то же богатство в именах и титлах: между добрыми пастухами, которых гостеприимством пользуюсь, множество грандов, дюков и графов.
Мой хозяин Дон Алваро Фернандо, граф де Мендора с наслаждением говорит о знатности своего рода и, не умея ни читать, ни писать, чрезвычайно любит, когда я ему рассказываю о подвигах его предков. Иногда, забывая чины и важность, он вскакивает, обнимает меня и говорит дочери своей: «Донна Анжелика! Не угодно ли вам подоить нашу корову, чтобы попотчевать жирным молоком этого доброго господина, который так хорошо знает историю королей Дона Карлоса и Дона Филиппа?»
Вчера я до самой полуночи бродил между развалинами Эскуриала. События минувших времен сопровождали меня. Казалось, я видел пред собою в смутной высоте тени коварного Фердинанда и честолюбивой Изабеллы{71}; Карла{72}, который в своей душе соединял души сих великих предков своих; ужасного Филиппа и несчастного его сына{73}; Ксименеса, Альбы{74}, Дона Жуана Австрийского{75}. Они прошли мимо, и я не заметил недостойных преемников их, — но век Буонапарта пробудил меня. Испания, наводненная необузданными полчищами Мюрата{76}, минутное царствование короля Иосифа, Испания в борьбе за свободу и независимость, за священнейшие права народов — великий и назидательный пример для потомства! Холодный ветер, поднявшийся с севера, прервал мои мечтания, но я еще долго бродил, задумчивый, между развалинами и чувствовал ничтожность свою и всего земного!