Проходят родные, близкие убитых, за ними вожди революции. Лица у всех будто из стали, окаменели от горя и решимости. Кажется, в уме у всех одна-единственная мысль, провозглашенная великим вождем: не сдаваться, выстоять, победить!
Три биплана, низко пролетев над площадью, сбросили листовки. Они падают неторопливо, трепыхая, и наконец опускаются на демонстрантов. Совсем как кленовые листья в осенней аллее...
Сегодня теплое сентябрьское солнце, очень теплое. Лучи его по-весеннему ласковы. Они озаряют алые гробы, знамена и сами тоже становятся алыми...
Траурный марш... Всегда такой волнующий... Крауя чувствует, у него перехватило дыхание... Покосился на товарищей: те тоже едва себя сдерживают... И все-таки не могут подавить волнение — катятся слезы* блестят на неподвижных подбородках... Плачут солдаты, закаленные в бесчисленных боях, в огне революции!..
Но вот вожди бросают в многолюдную толпу концентрированную волю самих масс, сгусток ее энергии — и лица у всех опять становятся непреклонными, жесткими, будто‘из металла...
После речей — парад красноармейцев и рабочих. Печатая шаг, проходят революционные батальоны, содрогается Красная площадь, веками обагрявшаяся кровью трудового люда, площадь, где совсем недавно была пролита кровь защитников Октября.
Всю ночь Краую мучила бессонница. Вечером у них с братом опять произошла стычка, уже в который раз... Хороший малый, но черт его знает, с кем он тут спутался, каких мыслей понабрался! Третий год в Москве, а революции так и не понял...
Брату тоже как будто не спится, ворочается с боку на бок...
Утром, бледный, разбитый, Крауя протянул брату руку.
— Кто знает, доведется ли свидеться... И скажу тебе кое-что на прощанье, если хочешь мне братом остаться... Не путайся ты с профессорами-итальяшками и всеми этими типами! Беги ты от них! Будь заодно с рабочими... Кто вздумает стать поперек дороги рабочему классу, тот будет безжалостно смят!..
— Да за кого ты меня принимаешь? Неужто я так низко пал в твоих глазах?
У брата дрожат руки, дрожат губы...
— Ну ладно, чего там, напишу... Будь здоров!..
Схватив свой пустой вещевой мешок, Крауя сбежал
вниз по лестнице... Но из Москвы он уезжал, преисполненный решимости и боевого задора. Приятно ехать навстречу битвам, зная, что позади остался большой революционный город. „
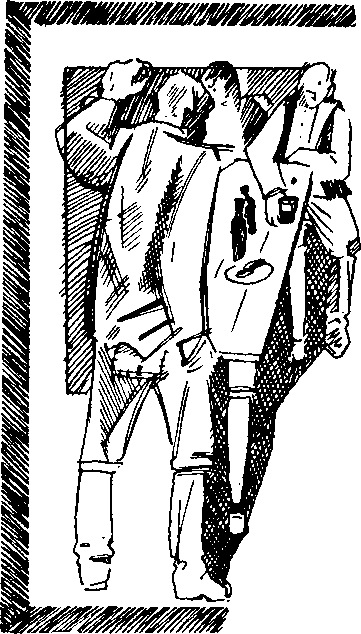
Ян Эйдук
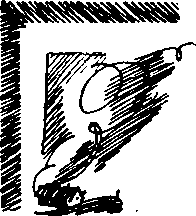
(1897—19431
ИОН ВУЦАН
И млеющем пекле июньского полдня смолисто пах-нут сосны. Поскрипывает песок под колесами. Лошади еле плетутся, лениво отмахиваясь хвостами от назойливых мух. Щелкнет изредка кнут, застучит по дереву дятел, и снова сонная тишь. Привалившись к боковым перекладинам тряской фуры, сидит Ион Вуцан. Дремотно смотрит он на плывущую перед глазами однообразную синюю гарь. Нет-нет и кинет взгляд на храпящего рядом хозяина. Подступает блаженная усталость. Так надоели обгоревшие сосны, лиловый вереск... Откинув назад густые волосы, Ион дернул вожжи. Гнедой скосил на него глаз и припустил трусцой, скорее подгоняемый примером передней подводы, чем острасткой. Быстрее потекли и мысли возницы, только совсем в другую сторону: назад, к родной Дагде...
Нежен запах цветущих ржаных полей, кольцом окруживших тихую Дагду. Словно заворожены, стоят овсы, шелестят метелками, соками наливаются...
Нет полей у Вуцанов. Да разве только у них? Не цветут у Вуцанов нивы, не полег тучный клевер, не погнулись ветви яблонь от обилия плодов...
Да, каждому свое... Руки у сестренки и матери Иона в ссадинах и царапинах — так старательно пололи они сады и огороды богатеев, у которых раздольные нивы и стада.
А старый Вуцан, с той поры как отряды красных стрелков покинули берега Даугавы, остался не у дел. Вот пришла весна, и потянула старика неведомая сила к Даугаве, будто должен он вместе с Ионом плоты вязать. Пришла весна, он весь преобразился, спешит к полноводной реке-кормилице... А потом понуро бредет обратно, волоча усталые, точно свинцом налитые ноги.
Нет больше Даугавы-кормилицы! Даугава сделалась нищенкой. Заброшенная, одинокая, сиротливо и неспешно катит она свои воды к морю... И никому теперь не нужен старый плотовщик. А Ион, еще мальчонкой в девятнадцатом году бегавший на все митинги, стал совсем взрослым.
И без того хлипкая хибарКа на окраине Дагды что ни год все больше заваливается. Огородик — лук да картошка — под окнами, точно гири на ногах у старого Вуцана. Никуда от него не уйдешь. А покосившийся домик всем своим видом будто говорит: уходите! И все-таки Вуцан никуда не уйдет. Дождется следующей весны и опять пойдет к Даугаве...
Другое дело Ион — тот ждать не собирается! Сколько раз твердил, не та теперь стала Даугава, их кормилица ушла в верховья, под Витебск, под Полоцк, словом, в ту сторону, куда отступили стрелки, а им, Вуцанам, ничего не остается, как покинуть тихую Дагду и двинуться в том же направлении, там и работы и хлеба хватит на всех.
Что на это ответит старый плотовщик? Может быть, Ион и прав, может быть... Только он привык на плотах вниз по реке плыть, по течению... А главное, плота у него нет, чтобы с течением побороться. Пешком, что ли, пойти? Они-то с Ионом, может, и дойдут, но как быть с матерью, сестренкой, с покосившейся лачугой?
Нет, старый Вуцан останется дома и подождет возвращения прежней Даугавы. Авось дождется!
А Иону не терпится. Пешком дошагал до Резекне. У парня одно на уме: как разжиться деньжатами да махнуть в верховья Двины-Даугавы. И вдруг удача! Подвернувшийся вербовщик так расписал ему жизнь в работниках у зажиточных хозяев, что парень окрыленный примчался в Ригу...
— Хозяин, к трактиру подъезжаем! — громко говорит Ион, вспомнив про наказ делать остановку у каждой придорожной корчмы. — Стойте! Тпру-у! — кричит он вознице с передней подводы, тормоша хозяина за плечо.
— Проснись, хозяин!..
Но хозяин, растянувшись во весь рост на поклаже, храпит себе дальше. Передняя подвода остановилась было, но тут же тронула с места, так что пыль заклубилась.
— Поехали, черт побери! Тоже мне — пить ему надо в каждом кабаке! — размахивая кнутом, сердится попутчик, едущий сзади.
— Да мне-то Зто... Было велено... — бормочет Ион. Потом, убедившись, что его хозяин и не думает просыпаться, стеганул лошадь, повернувшую к коновязи, и покатили.
Сосновый бор остался позади.
Задать лошадям корму решили у Малупской корчмы. Хозяин с передней повозки на ходу наводит порядок в своем полупустом возу — укладывает порожние ведерки из-под масла, свертки, покупки, — затем кидает вожжи на телегу, а сам, спрыгнув с нее, ведет лошадь под уздцы. Вот и просторная корчемная конюшня. Свернув влево, лошадь чинно встала у обглоданной перекладины.
— Эй, полячишка, что с твоим хозяином? Не очухался еще? Дышит? — Калнуснис, привязав свою лошадь, подходит к Иону, который возится с уздой. — Так кто ты, в самом деле, поляк или литовец? А может, латгалец? Ну тогда валяй по-латышски, латышский язык у нас, брат, в почете! Без него шагу не ступишь! Ну да ладно... девки наши мигом тебя обучат!
— Рейнис, ау! — кричит Малынь, подходя с дорожным кульком к возу. — Вставай, Рейнис Виксне! Дернем по чарочке! Самое время! — И старик, теребя бородку, подмигнул Калнуснису: — Иначе его, стервеца, не поднимешь... Эй, Рейнис, Малупскую корчму проспишь! Не мешало б горло промочить!
— Вставай! Вставай! — напустился на него и Калнуснис, тормоша за плечо. — Закусим, выпьем и дальше поедем.
Рейнис Виксне трет кулаками припухшие глаза, причмокивает мясистыми губами, наконец спускает ноги с фуры.