Сказ второй СТЕНЬКА — ГУЛЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК
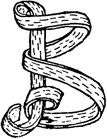 лютый мороз на крещенье Афонька возвращался с дозора. Пали уже сумерки. Спустился Афонька в распадок. И тут конь Афонькин, храпнув, прянул в сторону. Схватившись за саблю, Афонька склонился с коня и увидел на снегу не то мешок, не то иную кладь какую, оброненную. А соскочил, глянул — человек! Не шелохнется, но вроде как еще живой. Перекинул его Афонька через седло и махом домчал до острога.
лютый мороз на крещенье Афонька возвращался с дозора. Пали уже сумерки. Спустился Афонька в распадок. И тут конь Афонькин, храпнув, прянул в сторону. Схватившись за саблю, Афонька склонился с коня и увидел на снегу не то мешок, не то иную кладь какую, оброненную. А соскочил, глянул — человек! Не шелохнется, но вроде как еще живой. Перекинул его Афонька через седло и махом домчал до острога.
Когда найденный вошел в силу, привели его в приказную избу. Новый воевода, Никита Карамышев, сам вел ему спрос. И сказался тот мужик Стенькой — гулящим человеком. А шел из Енисейского на Красноярский, да в дороге обессилел. А прозвище и по отцу как, и лет сколько, и откуда родом — мол забыл, не помнит, ум-де отшибло. А веры православной и не вор какой.
И что с тем Стенькой делать, и куда его деть? Неведомы Хотели приписать Стеньку в служилые или в посадские люди. Но он заартачился: я-де человек вольный, гулящий.
На том Стеньку и отпустили с миром, крепко упредив: воровскими делами не заниматься, чтоб ни в разбое, ни, боже упаси, в каком изменном деле не был замешан, не то пусть пеняет на себя.
Так и остался Стенька при остроге Красноярском. Скитался меж дворов. Промышлял чем мог. Одно лето ходил с торговыми людьми, тянул бечевой лодки с товаром. Потом нанимался к пашенным и посадским на покосы, на жнитво. А студеными зимами — когда промышлять в тайгу зверя ходил, когда опять же у пашенных или посадских работал. Тем и жил.
По всему видать было, что крестьянство Стенька знал. Ладно обихаживал лошадей, сноровисто косил и жал, наметывал воз. Знал и по кузнечному ремеслу, как сошник наварить, топор закалить, коня подковать..
И все же на Стеньку, хоть и не замечали за ним ничего худого, смотрели косо. Ни кола, ни двора, не у дела — а самому лет уже за тридцать. Сам из себя мужик здоровенный: в руках силища медвежья, рост — воробья из-под стрехи достанет. Всем вышел — а вот шатун. Да и во хмелю его видывали, и не раз, и не два. Правда, бражничая, Стенька не буянил. Лишь кручинился шибко, угрюмел и уходил с глаз людских то на Енисей, то в тайгу.
Так и жил года с три. Но за последнюю зиму стал озоровать, а по весне совсем задурил. Из похмелья не выходил, стал буен. Дрался не единожды с посадскими и пашенными, за что на съезжей батогов отведал. Ходил теперь Стенька в драном зипуне, в дырявых опорках. Кормился от добрых людей — чем бог пошлет.
Вновь попал Стенька в приказ к воеводе на великом посту. А за то, что облаял десятника конной казачьей сотни Романа Яковлева, и тот на Стеньку челом бил воеводе, Стеньку сначала отменно попотчевали батогами, а потом привели в приказную избу и пригрозили с острога согнать.
Стоит Стенька перед воеводой.
Сквозь слюдяные оконца приказной избы озорует на полу апрельское солнце. На широкой лавке, опершись ладонями о колени, сидит воевода Никита Карамышев. За столом, навалившись грудью на столешницу, — атаман конной сотни Дементий Злобин. Десятник Роман Яковлев, недавний истец Стенькин, и два казака — старый знакомец Стенькин — Афонька и еще один — стоят около воеводы. Все смотрят на Стеньку. Он же стоит насупротив их — гулящий человек, привалившись могучим плечом к косяку. Стоит, мнет в руках истрепанную шапку и угрюмо, исподлобья глядит куда-то в сторону.
— Тебя, поди-ка, и с Енисейского острогу тоже согнали? — допытывается воевода. — Смотри, и с Красноярского сгоним.
Стенька молчит: чо там, воля ваша — гоните.
Тут воевода вдруг и скажи Стеньке:
— Садись, Стенька, на землю. Хватит тебе в гулящих ходить.
— На землю? — вскинул глаза Стенька и опять замолчал. Он-то знал, что такое земля. Из-за нее бежал за Камень[33], подпалив боярскую ригу, когда свезли у Стеньки со двора последние снопы за недоимку. За четверть десятины тощих песков дрожал и бедовал в кабале мужик.
А тут земли — пахать не перепахать. Да кто ее даст, землю-то? Ему — гулящему?
— Ну что окоченел? Или язык проглотил? — сердито посмотрел на Стеньку Никита Карамышев. — Отвечай, любо тебе ай нет в пашенные идти?
Стенька молчал. Он за эти годы, как скитался по местам разным, и думы-то не держал, что сможет землю иметь. Свою землю — не боярскую, не господскую, на которой хребет ломал.
— Ты, Стенька, дурень, — с трудом выдвигаясь грузным телом из-за стола, сказал атаман Злобин.
Он подошел к Стеньке.
— Ну чо ты за человек есть? Ну чо? Шатуга, перекати-поле. Ни себе, ни людям. Ты только посмотри, сколь земли-то! Знай паши, засевай. Ждет она, земля-то! Тебя ждет. Ить как она урожает тут. Хлебушко урожает, — грубый голос атамана помягчел. — Хлебушко. Эх, Стенька, непутевый ты человек! Казакам хлебушко нужен и иным прочим: посадским, татарам мирным — всем. Без хлебушка знаешь как худо. Вон, как только острог мы поставили, все припасы сошли у нас. Голодно. И вот по такому делу убили атамана Ивана Кольцова. Ходил он в Енисейский за хлебными запасами и не привез почитай ничего. Казаки голодные озлобились и посадили его в воду. А ты! — вдруг озлился Дементий Злобин. — Ни за саблю, ни за орало. Да креста на тебе нет опосля этого.
Он в сердцах плюнул, но тут же покосился на воеводу — экое ведь невежество допустил, и отошел от Стеньки.
— Так, так, — согласно кивали и десятник Роман Яковлев, и Афонька, и другой казак.
— Эй, Стенька, думай, — властно и решительно произнес Карамышев. — Сгоню тя с острога!
И тут Стенька заговорил, хрипло и глухо, толчками, ровно кто его в шею шпынял.
— Согнать-то чо… Может, я и сам уйду… Гулящий… А на землю… Чо на землю… Я… всегда… землю… Я из-за земли-то и за Камень утек, — вдруг зло молвил Стенька, высоко подняв голову. — От петли убег.
— Что было — быльем поросло, — пристально и спокойно глядя на Стеньку, сказал воевода. — Ты вот теперь подымись. И не думай, не сгоним с земли. Сколь возьмешь, столь и дадим, опричь государевой десятины.
— Она-то, земля, государева, да наша — не боярская. Мы за нее бились и кровушку лили, — прогудел из угла Дементий Злобин.
— Так, — серьезно кивнул воевода и глянул на Стеньку.
— Земли у меня на заимке возьмешь, за Енисеем. Добрая там земля, за Енисеем-то, — продолжал Злобин.
Стенька вдруг заулыбался. Он вскинул голову и широко открытыми глазами обвел всех. И все тут вдруг приметили, какие у Стеньки глаза — большие и синие, красивые, ровно у девки.
— Ну так что, Стенька, надумал на землю садиться? — спросил Карамышев, тоже улыбаясь.
Но Стенька опять нахмурился и сгас.
— Коня у меня нет. Сохи тоже. Семян… Ничего нет, — прошептал он.
— Дадим, — сказал Карамышев. — Мужики пашенные, кто посильнее, дадут, пока своего не заведешь.
— В кабалу идти?! — Стенька снова вжался в косяк. — Я от кабалы утек и опять в нее, постылую!?
— Дадут без кабалы. Пойдешь в издольщики к кому — дадут.
И Стенька — гулящий человек согласился.
Когда вышли из приказной избы, Стеньку нагнал Афонька.
— Ну вот и ладно, — сказал он, дружески хлопая Стеньку по широкому плечу. — Только смотри, Стенька, место там за Енисеем одинокое, наших там, почитай, никого нет, а иной раз киргизы набегают.
— Не. Мне ничто! Слажу с ними. Не спужаюсь.
— Я тебе рушницу дам.
— И то ладно.
На другой день, пока держал еще лед, перебрался Стенька на правый берег Енисея, и непоодаль от Злобинской заимки отвели ему земли. Отвели — не меряли. Добрую елань насмотрел Стенька. Окружал ту елань подлесок густой, за которым могучей стеной тайга шумела, а дале горы подымались.
Осмотрел Стенька свое место. Угожее. И хоть снег еще лежал, а видно: корчевать и выжигать мало чего будет. Вот только камни какие-то из-под снегу торчат, да сосна-сушина высится. А так только кустики кое-где да елочки малые.
Работы Стенька не боялся.
Дали ему лошадь, соху, жита с ячменем на посев. Построил Стенька себе балаган на опушке, чтоб не бегать до заимки взад-вперед, и стал вырубать на елани там куст, здесь елочки. Сваливал все в кучи. «Как снег сойдет, враз спалю все — и за пашню».
Здорово работал Стенька, не жалел себя. Уж очень хотелось запахать землю, свою — не боярскую. Засеять ее, ждать тучного колоса.
И шло все хорошо.
Но однажды, когда кончал Стенька стаскивать последние каменья, набежали на него несколько иноземных ратных людей. Попервости Стенька не разобрал, кто такие. Подумал — может татары качинские куда снарядились. Но вглядевшись — ахнул: «Киргизы — не иначе».
Во главе их был старик. Поган с виду, а зол — беда!
Киргизы изрядно по-своему шумели, а тот, старый, больше всех. И кричал, и руками махал, и грозил Стеньке — лук натягивал.
Налетели киргизы так прытко, что Стенька, сжав в руке топор, а другой вытащив нож из-за пазухи (эх, огненного боя не было — рушница в балагане осталась), стоял и не ведал, что делать.
Долго шумели, пока понял Стенька, чего раскричались некрещеные. На том месте, занятом под пашню, был схоронен родич старого киргиза, и камни те, которые усердием сволакивал Стенька, на могиле положены были.
А сам киргиз сей старый — князец. И сказал он: все русские должны уйти с Качи-реки и землиц здешних, не то рано ли, поздно ли изведут их они, потому как места эти ихние и ясак с качинских людей они по все времени на себя брали. Все это растолмачил Стеньке с пятое на десятое один из киргизов.
— Ходи дом, Кызыл-Яр-Тура, — старательно втолковывал он Стеньке.
«И тут гонят», — с горечью подумал Стенька и озлился.
— Цыть, вы! — рявкнул он и замахнулся топором. Киргизы попятились испуганно. Острог хоть и за рекой был, а все же близко, и они боялись трогать Стеньку.
— Моя земля, — твердо и решительно сказал Стенька. — Царь-государь всея Русии меня пожаловал, да воевода, да казаки. Ишь: «ясашные», «помер кто-то». Ну и что — помер? Пошли прочь, — широко шагнул он на ратных киргизских людей. Те отбежали и, став поодаль полукругом, смотрели, как Стенька вывернул своими огромными ручищами здоровенный камень, отнес в сторону и метнул его. И пал камень наземь так, что земля загудела. А потом Стенька в несколько могучих взмахов сокрушил зазвеневшую под ударами его топора большую сушину, что стояла посередь елани. Та рухнула и легла межой деревянной меж Стенькой и киргизами.