Сказ двенадцатый СЕРДЦЕМ ЯРЫ
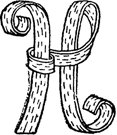 ад Красным Яром гудит, стонет ветер. Он налетает на острог, трясет ворота в проезжей башне, дико свистит в дуле затинной пушки, стучит в двери и ставни казачьих изб, гонит по острогу пыль, клочья сена.
ад Красным Яром гудит, стонет ветер. Он налетает на острог, трясет ворота в проезжей башне, дико свистит в дуле затинной пушки, стучит в двери и ставни казачьих изб, гонит по острогу пыль, клочья сена.
Старый отставной десятник Афонька Мосеев, или просто дед Афонька, как его теперь кличут, лежит на своей лавке в горнице. Ночь, но старику не спится.
Он слушает, как стонет, мечется по острогу ветер.
Вот так же, словно ветер, мечется по острогу смута. Бьют набаты. Сбегаются на круг казаки.
Давно идет шатость в остроге. Почитай на третий год повернуло, как отказали казаки в воеводстве Алексею Башковскому, а потом брату его, Мирону.
Оба свирепы, злы и спесивы не в меру были. Невмоготу стало казакам, и они пригрозили им: коль не сойдут с острога — будут бить их смертным боем. Воеводы отсиживались в малом городе, но потом уходили — куда денешься, коли народ против них взбунтовался.
Афонька, когда началась шатость в Красном Яре, жил тогда у среднего сына своего Федьки в Иркутском остроге. Но как узнал о том, что творится в Красноярском, — а вести привезли люди верные, и они, сказывают, подбивали иркутских, и илимских, и других острогов людей выступить заодно с ними, — так и приехал к себе на Красный Яр, в Качинскую землицу и вот теперь он лежит на лавке в своей избе, в которой живет его старший сын, тоже Афонька, десятник той же конной сотни, в которой служил когда-то и сам.
И при нем уже, при старике Афоньке, третьего воеводу согнали с воеводского двора, — Семена Дурново, что лютей и злей прежних был.
Много позлодействовал Семен Дурново над казаками. Сразу же, как на остроге появился, — он повел сыск против заводчиков шатости. И сыск вел с лютостью еще злейшей, нежели Мирон и Алексей Башковские. Воеводские люди хватали казаков, винных и безвинных, волокли в приказную избу. Били их там, мучили, в колодки заколачивали. А Дурново, видя, что покорства ему нет, еще больше лютовал и злобствовал.
От его злодейства помер брат Артемки Смольянинова. От чего помер, мол, неизвестно, дескать, от хвори. Какая хворь! Били Алешку Смольянинова за брата Артемку, который не дался воеводским людям.
И над посадскими и пашенными творил, что хотел. У одного взял девку Варвару в услужение и обесчестил ее. А жениха ее, который пометить грозил, тайно схватил, заковал в колодки и тайно же в Енисейск отправил, отписав, что сей казак самый злой вор и разбойник.
И жаден был до всего не в пример прочим воеводам. Все себе в почесть брал. До смешного дело доходило. Поймал однажды в курье у острова пашенный мужик осетра большого, так воевода велел того осетра ему отдать, а мужика, пришедшего к нему хоть головизну себе вымолить, велел выпороть.
И не счесть, не перечесть и не описать всех лихих дел воеводских, великих и малых.
Змей-Горыныч, поди-ка, ангел божий по сравнению с ним-то, с Семеном Дурново. И быть казакам в тоске и горе от него, да не те теперь казаки стали. Что они, что татары подгородные, которые супротив воевод со служилыми заодно были, силу свою почуяли, поднялись опять на воеводу и отказали ему в воеводстве. И пришлось Семке Дурново подобру-поздорову в Енисейский острог убираться. А уж там на него и на его прислужников верных не одна горькая казацкая челобитная лежала.
Вспоминал дед Афонька, как призывал и его к себе в приказ тот Семен Дурново, сведавши о возвращении Афонькином из Иркутского острога. Все допытывался, не привез ли он прелестных писем, да не ходят ли такие письма по острогу Иркутскому от красноярских служилых. Афонька же ему сказывал лишь то, о чем воевода ведал, а уж насчет прочего, то кукиш с маслом.
Не посчитались допытчики Семеновы ни с немощью деда Афоньки, ни с годами его преклонными, ни с заслугами ратными. И лаяли, и взашей давали, и за бороду дергали. И все корили, что у такого казака старого и сын и внук к шатости примкнули. И что только за это одно мало ему, Афоньке, тюрьмы.
Еле выбрался дед Афонька от воеводы.
Попервости, услышавши про шатость, Афонька хотел было увещевать казаков, чтоб не бунтовали. Но как увидел да сам сведал каков Дурново и его люди, — так и отвернулось от них его сердце. Ведал только, что не супротив государя встали казаки, а лишь супротив мучителей и своевольников.
Ночь. Острог отдыхает после тревожных дней. Дышит свободно с самого апреля, как сбежал Дурново в Енисейский острог. А сейчас уже август.
Мило дело без Семена, что только гавкал сиплым голосом на встречного и поперечного, ровно цепной кобель. И все с матерками.
А Степан Лисовский, письменный голова енисейский, что заместо Дурново в острог воеводой прислан на время, с казаками вел себя бережно и тихо. В дела круга не встревал и судеек выборных, что всеми делами вершили, не задирал. Несите, мол, казаки, справно службу, а там — дело ваше.
Спит острог крепким безмятежным сном.
А старому Афоньке не спится. Лежит, ветер слушает. И вдруг слышит — мимо избы их, что окнами в улицу выходит, — шаги. Топ-топ-топ. И голоса глухие, ровно боятся в полную силу говорить. Дивно, дивно! Кто бы то мог быть? Своим-то таиться не к чему. Всегда, коль по ночам ходили дозором или просто так, говорили громко, не скрываючись, а тут…
Он поднялся с лавки, приник ухом к окну… Нет, уже ничо не слыхать. То ли сблазнилось, ли впрямь чо было недоброе… Побудить сына Афоньку?.. Да нет, пущай спит. За день-то умаялся, все караул держат, ежели чо дурное учинится супротив казаков красноярских.
Афонька снова улегся на лавку. И невдомек ему было, что с час назад в ночной теми к острогу по Енисею подошло впотай несколько лодок. Приплывшие в них люди тихо вышли из лодок и осторожно пробрались с берега на крутой угор.
— Я им покажу, — сиплым злобным голосом приговаривал один из них, маленький да толстый. — Тьфу, темь! Ни зги не видать. Ровно тать какой крадешься. И к кому же? К себе же! А все заводчики шатости, все бунтовщики окаянные! Ну уж ладно, как молвится.
— Тихо давай, Семен Иванович. Не ровен час — услышит кто из смутьянов, так…
— И пусть услышат. Я, воевода, и, значит, в свой город войти не смею?!
— Ладно, Семен Иваныч, ладно тебе…
— Вот будет ладно, коли в остроге сызнова будем и всем смутьянам задницы отобьем. А которым и головы поотрываем. Уж я до них доберусь! Только б в малый город пройти да печать на себя вздеть сызнова…
— Вот то-то и оно — в малый город. Уж там видно будет, как и что. А сейчас тихо надо, чтоб, стало быть, не углядели. Казаки, сам знаешь, какие стали.
На эти слова Семен Иванович, тот самый Дурново-воевода, ничего не сказал, только плюнул в сердцах.
Он, Семен Дурново, как только его после сысков, спросов и расспросов в Енисейске вновь воеводой в Красноярск назначили, он, позабывши и с думным дьяком Данилой Полянским попрощаться и отблагодарить за то, что тот ворожил ему, — тотчас же собрал своих людишек и спешным делом отправился в Красноярск. И первая его дума была — поскорее выставить из Красноярска Стеньку Лисовского, письменного енисейского голову, который явно давал бунтовщикам потачку: уж сколь времени прошло, а его с воеводства еще не скинули. Ну, а второе дело, — это уж, вестимо, сквитаться с теми, кто супротив него выступал яростно — Смольяниновы, разные там Суриковы, Ваньковы, Мосеевы. Будет на остроге Красноярском потеха. Отучит он, Семен Дурново, супротив воеводы и иных начальных людей идти.
Дурново и его люди подошли к проезжей башне.
Караульщиков видать не было: иль укрылись где. Иль совсем без караулу острог оставляют. Правители!..
Потоптались у ворот — стучать или нет? Вдруг налетят, услышавши стук, да и…
Дурново со зла плюнул и пнул в воротное полотнище ногой. И сразу за воротами что-то звякнуло и зашеборшило.
«Не спят все же, паскуды», — подумал воевода.
А из-за ворот послышалось:
— Кто там?
— Свои! Отпирай, — ответил один из воеводских людей и ухватился за ворота.
— Наши-то все дома, — ответил караульщик, но ворота все же отпер.
Дурново быстро, укрывшись меж своих людей, вступил в острог. Караульный так и не разобрал, что за люди и откуда в острог вошли. Подумал, что деревенцы по какой нужде с докукой до судеек. Он зевнул: «Леший вас по ночи носит, не могли дня дождаться», — и, навалившись на тяжеленную створину, в которую зло упирался ветер, стал затворять проезжие ворота.
В большом городе — ни души живой. Только собаки на ветер брешут. Дурново и его люди быстро и опасливо прошли мимо казачьих изб. За окном одной из них им почудился шорох, и они прибавили шагу.
Скорехонько, через острожную площадь, проскочили до малого города, за стенами которого отсиживались и Алексей Башковский, и брат его Мирон, и он, Семен Дурново, с верными им людьми. Отсиживались, наставив на буйный город пушки и пищали, ожидаючи, что вот-вот ринутся на приступ взъяренные служилые. Да, было такое дело.
Сейчас на малом городе дозоры не стоят. Знают казаки, что в Енисейском Дурново, а и не ведают, боговы дурни, что он уж вот где — тут, на остроге.
Дурново осклабился в темноте. Ладно, дурни. Сняли осаду с малого города. Молодцы за это. Сейчас вот припожалует к Степану свет Степановичу Лисовскому.
Не любил его Дурново. Черной завистью кипела его душа против Лисовского. Казаки, вишь, его уважают. Приветливый, говорят, да справедливый. Ну и пусть. А ему Лисовского любить не за что. Только потачки дает он смутьянам, так за то ли?
Крадучись, Дурново взошел на высокое крыльцо приказной избы и толкнул дверь.
В сенцах кто-то сонно сопел, но за темью — ни шиша не видно.
— Высеките огня-то, — обратился Семен Иванович к своим.
Высекли огня, запалили лучину.
В сенцах спал мужик, укутавшись с головой в тулуп. Не то сторож, не то кто другой. Леший его разберет.
Семен Иванович, уже чуя себя хозяином, без почтения ткнул мужика кулаком в бок. Тот закряхтел, засопел, — однако так и не поднялся.