Как-то в дверях нашей палаты мелькнула жердеобразная фигура нового медика. Он отдаленно напомнил мне Кайновского. Я усмехнулся и подумал: «Интересно, поймем ли мы когда-нибудь друг друга?» Впрочем, теперь я не чувствовал к нему неприязни. Мне даже хотелось, чтоб этот новый доктор в действительности оказался Кайновским: все-таки немного знакомы, можно было бы поболтать, кое-что вспомнить. Спорить, наверно, не стали бы.
— Юля, не Кайновского я видел сейчас у дверей палаты?
— Да, это Христофор Александрович Кайновский, один из наших фельдшеров. Старые знакомые?
— Пожалуй что приятели.
— И он не знает, что вы теперь у нас?
— Должно быть, не знает.
— Сказать ему?
— Нет, пока не надо.
Мы сами скоро встретились, без посредничества Юли. Он был дежурным по госпиталю и обходил после ужина палаты. Я ложился спать.
— Ба, кажется, товарищ Дубравин! Не ошибся?
— Нет, не ошиблись, товарищ Кайновский.
У него почему-то дрогнуло веко.
— Значит, в плену у эскулапов. Где же и давно ли вас царапнуло?
— Месяц назад, в лесу под старой Лугой.
— В шахматы… не увлекаетесь?
— Нет, не пристрастился.
— А то бы в ночь дежурства составил вам компанию.
Встреча оказалась ни теплой, ни холодной, ей надлежало быть сдержанно-вежливой, такой, вероятно, она и получилась. Может быть, следовало поиграть с ним в шахматы? Не знаю. До войны я сиживал за шахматной доской и сиживал, бывало, подолгу.
Однажды Юля объявила:
— Ну, завтра — операция.
Так неожиданно, так просто — я даже рассердился.
— Что за операция?
— Так называемая радикальная. Надо же вынуть осколок! Или вы всю жизнь хотите таскать в руке инородное тело?
Простота такого объяснения меня обезоружила.
— Ладно, Юлечка, простите. Что требуется от меня?
— Вовремя встать, не завтракать, прийти в хирургическую и лечь на операционный стол.
— Только всего?
— Ничуть не больше.
— И мне покажут железный осколок?
— Завтра будет лежать на вашей тумбочке.
Милая, добрая Юля. Она не подозревала, как напугало меня ее сообщение. Весь день и всю ночь накануне операции я только тем и занимался, что мысленно заклинал хирурга сделать все возможное, лишь бы не ампутировать руку. У страха глаза велики. Но как не страшиться, если двое из нашей палаты на прошлой неделе ушли туда с руками и с ногами, а вернулись — один без руки по самое плечо, другой — без правой голени.
Утром в хирургической, когда сняли гипс и промыли спиртом распухшую рану, я решительно потребовал:
— Делайте что угодно, доктор, только не ампутируйте.
Доктор усмехнулся:
— А кто вам сказал, что надо ампутировать? До этого дело не дошло. И не дойдет, надеюсь.
Он меня не успокоил: так говорят со всеми.
И вот белый операционный стол. Общий наркоз. Зачем, в таком случае, общий? В самом деле, ну зачем же общий?.
— Доктор, зачем общий?
— Считайте! — шепнула мне Юля. — А ну-ка, считайте до ста. Ни за что не досчитаете.
Я досчитал до двадцати, но спать не собирался.
— Прибавьте! — сказал сердито доктор.
— Считайте, считайте, — упрашивала Юля.
А я помнил одно:
— Доктор, оставьте, пожалуйста, руку. Прошу вас, пожалуйста… очень прошу…
С этой единственной мыслью — и просьбой, и надеждой — я неожиданно уснул. Досчитал, говорили после, до двадцати шести…
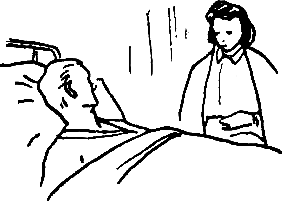
Женя Приклонская
Нет, руку мне не оттяпали. Все сделали добросовестно. Осколок оказался с ноготь большого пальца — темный, корявый, «из рыжего рурского железа», как заметил доктор. Юля сразу после операции принесла его в палату и положила мне на тумбочку. Но я его выбросил. Вспомнил «рыжее рурское железо» — made in Германия, горячий цех фашизма — и выбросил в форточку как истинно инородное тело. Коллекционируют предметы культуры — не осколки варварства.
Я лежал после операции и думал обо всем на свете — в эту минуту ко мне пришла Женя, жена Виктора Приклонского. Еще до операции я нацарапал ей левой рукой, что знаю подробности гибели Виктора.
«Если хотите и не боитесь узнать эти подробности — приходите, а не хотите — не надо, вы будете правы. И, пожалуйста, утешьтесь. Виктор достойно выполнил свой долг и до последней минуты был в глазах товарищей честным и мужественным воином».
Написав ей так, я, впрочем, подумал, что Женя, возможно, не придет. Нужны ли ей новые волнения?
Но она пришла. Сразу разыскала меня, улыбнулась, тихо поздоровалась и мягко опустилась на стул у изножья моей койки.
— Нет, нет, вы, пожалуйста, лежите. Вы ведь после операции? Вот и лежите спокойно.
Она была в вязаной кофточке, в шерстяной коричневой юбке и фетровых ботах. На лице лежали темные веснушчатые пятна. Полы белого больничного халата распахнулись и приоткрыли круглый, высокий живот. Меня несколько смутил этот ее живот, но Женя не заметила моего смущения. Положила на тумбочку бритвенный прибор и сказала:
— Это вам от меня. Думала, думала, что в таком случае лучше всего подарить мужчине, — купила безопасную бритву. Годится?
— Конечно, — согласился я, растроганный вниманием. — Правда, сейчас меня бреет парикмахер. Но вот заживет рука — придется опять самому скоблиться. Свою бритву я, кажется, потерял.
— Вот видите, как хорошо придумала! — Она улыбнулась. — Ну, расскажите, — и сразу посерьезнела. Глаза стали строгими, печальными. — О чем вы говорили в последнюю встречу?..
— Мы не встречались, Женя. Я видел только могилу в Петровке и слышал рассказ очевидца его гибели.
— Все равно. Я слушаю.
Я повторил ей рассказ партизана, затем описал могилу. Она напряженно молчала. Но, когда я кончил, заплакала — тихо, беззвучно, одними крупными слезами.
— Весной я поеду в Петровку. И каждое лето буду туда ездить. Верите, до сих пор не могу внушить себе, что больше его не увижу. Всю жизнь буду ждать, всю жизнь…
Вытерла глаза, помолчала.
— Я ведь уволилась из армии, вы знаете? Живу теперь одна в квартире на Херсонской и жду к весне ребенка. Мы хотели мальчика. Не знаю… Виктор даже имя придумал — Андрюша. Из русских самое русское, убеждал меня. Пусть будет Андрюша… Комната была холодная, но мне помогли отремонтировать. Подполковник Коршунов солдат присылал. И сам заходил однажды, спрашивал, не нужно ли чего-нибудь еще. А что мне еще нужно? Ничего не нужно, спасибо и на этом. На днях пригласила старушку, будем с ней вдвоем. А потом — друзья. Я ведь и вас считаю своим другом. Вы не против?
— Что за вопрос, Женя!
— Я вот думаю: хорошо, что вы не женаты. Знаете, как тяжело теперь женам, чьи мужья уж не вернутся? Когда были вместе, мы ничего не замечали, почти ничего. А теперь… Ой, как тяжело теперь! Так тяжела, что сказать не умею.
Откуда-то пришел Полукопейкин. Бесцеремонно посмотрел на Женю, сказал:
— А я и не подозревал, что у Дубравина жена в Ленинграде.
Женя ему ответила:
— Пока не подозревали, были правы. Стали подозревать — ошиблись.
— Возможно. Значит, не жена?
Женя выпрямилась, смело взглянула нахалу в глаза, гордо сказала:
— Вдова, товарищ командир. Была жена, теперь вдова. Еще вопросы будут?
— Простите, — осекся Полукопейкин и тут же исчез из палаты.
— Не обращайте внимания, Женя.
— Разве я ему мешаю? Или обязана отчет перед ним держать? Виктор мне говорил: «Не спеши, глупышка, люди ведь разные, разберись спокойно». А я не умею спокойно. Может, он и герой, этот невежливый красавец, но мне он сразу не понравился.
— Хамам надо указывать их место.
— Я тоже так думаю. Ну что ж, Алексей Петрович, желаю вам всего хорошего. — Она поднялась. — Быстрее поправляйтесь. А выпишут — заходите в гости. Пожалуйста.