Антипа выпучил глаза.
— Прискорбно.
Я положил объяснение и вышел.
— Подумай, Дубравин! — заискивающе и вместе с тем как будто с угрозой крикнул вслед Антипа.
«Продумано», — сказал я себе.
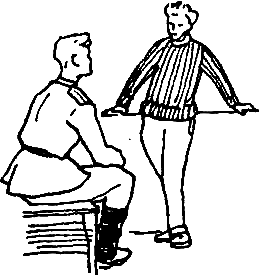
«Не лопочи сентиментально»
Пашка встретил меня в проходной, затем мы ушли в его «конторку» — узкую щелястую пристройку в конце цехового пролета. Мне он предложил единственную в этом помещении табуретку, сам взобрался на каменный подоконник.
— Ну, рассказывай.
Я спросил его, есть ли у них на заводе «кретинизм».
— Это что за зверь такой?
Я объяснил. Пашка слушал рассеянно, с блуждающей иронической улыбкой.
— Ну и что? — спросил он безразлично.
— Как вы боретесь с этой болезнью?
— Нам некогда заниматься такой чепухой. Танки работаем.
— Я тебе серьезно…
— А я — ваньку валяю? Давай о другом. Зачем о Вале спрашивал?
— Из-за этого кретинизма меня привлекают к партийной ответственности.
— Что-о? — Пашка мгновенно нахмурился и сполз с подоконника. — Ты что же, за ворот зашибаешь? Дон-Жуаном стал? Или, как говорят, морально разложился?
— Обвиняют в политической беспечности.
— Ага! Значит, смирился с недостатками? Не замечаешь безобразий? Смотришь на эти безобразия сквозь чистенькие пальцы? Моя каморка с краю, я ничего не знаю…
Реплика Пашки вдруг навела меня на мысль: не хотят ли Антипа и Чалый, чтобы я не замечал каких-то недостатков? Молчал и никому не говорил о ежедневных отлучках Антипы на Фонтанку и о связях Чалого со Стекляшкиной? Чтобы вместо этого усердно воевал с мифическим противником — «пагубным» влиянием Пушкина и Гоголя на души солдат? Отвлекающим огнем прикрывал какую-то засаду?
Нет. Я отбросил эту нечестную мысль. Что бы между нами ни было, они не снизойдут до этого. Дело, в конечном итоге, начал этот Ященко.
— Так, что ли? — рявкнул Пашка.
Я изложил подробности инцидента. Он не перебивал меня. Когда я закончил, он выразительно сказал:
— Дурак!
Я с покорностью принял нелестный эпитет в свой адрес.
— Что поделаешь. Так оно было.
— Я говорю: этот инструктор — дурак. Типичный дубовый сундук, пропахший нафталином. Да и ты, если разобраться, далеко не умник. У тебя же есть парторг, партийная организация, есть комиссар, наконец. Они-то, надо думать, не глупее вас с инструктором? И в партийной комиссии не дураки. Как будешь держаться?
— В объяснении написал: виновным себя не считаю.
— Так и написал?
— Так и написал.
— Так и держись.
Я с облегчением вздохнул.
— В такой переплет еще не попадал.
— Переплеты бывают разные — бумажные, из коленкора, из телячьей кожи… — Пашка опять взобрался на подоконник.
— Ты к чему — о переплетах?
— Не вздыхай, не лопочи сентиментально. Ты же боец, коммунист. Вот и держись большевиком. Есть безошибочное правило проверять свое поведение: спроси, что говорит твоя совесть. Совесть чиста — значит, честен перед партией. Зачем о Вале спрашивал?
— О Вале я тебя не спрашивал.
— Разве? Значит, мне послышалось. «Не смей! — кричал по телефону. — Не подводи приятеля. Кажется, запутался».
Мы оба рассмеялись: он — широко, от души, я — нехотя и сдержанно.
— Валя, — осмелился я, — стала писать почему-то редко.
— А ты? — насторожился Пашка. — Хоть раз в неделю пишешь?
Я промолчал: не хотелось признаваться, что сам пишу не часто.
— Так что же ты хочешь, дорогой товарищ? Чтоб девушки первыми признавались в чувствах? Первыми писали нам нежные письма? Первыми приглашали в кино и на танцы? По какому праву или недоразумению? Рыцарство — мужская привилегия. И симпатичнейшая наша обязанность. Я ни за что не уступил бы это первенство им!
Пашка пожевал губами, затем пресерьезно сказал:
— Если бы не было в жизни любви, жизнь была бы скучна и прохладна.
— Вот как! Раньше ты не доходил до этого.
— Раньше! — ухмыльнулся Пашка. — Раньше у меня и усы не росли. А было время, мы с тобой не знали, что дважды два дают всего четыре. А может, ты знал, да помалкивал?
— Честное слово, не знал.
— То-то же! — И он неожиданно пропел вполголоса, подражая деревенской девушке:
Я благодарен был Пашке за его поддержку. После его шутливо-серьезных замечаний исход моего столкновения с Ященко казался не таким безнадежным. И Валя, возможно, не так уж далека, как мне иногда представлялось.
«Если бы не было в жизни любви, жизнь была бы скучна и прохладна». Не только любви — и любви, и дружбы. И вообще, деликатных привязанностей человека к человеку. Без таких привязанностей, умного и честного понимания друг друга жизнь была бы, наверно, невыносимой.

Коршунов, Тарабрин, Подмаренников
Скоро меня вызвали в поарм. «Дело» оказалось почему-то у Дмитрия Ивановича Коршунова. Он сказал мне, что внимательно его изучил, был по этому поводу в полку (я не знал об этом), потом, предложив мне сесть, — кабинет представлял угловую комнату, имевшую стол, телефон, три потертых стула и шкаф для шинели, — со свойственной ему прямотой спросил:
— Как же так, Алексей? Знаю тебя довольно порядочно как вдумчивого парня и аккуратного работника. Как же ты в споре с инструктором политотдела обошел партийную организацию? Допустим, ты прав, он не прав. А что говорит партийная организация? Она даже не знает, что тебя привлекают к ответственности.
— Знают Клоков и подполковник Чалый.
— Клоков и Чалый еще не организация. Они и бюро не поставили в известность: авторитет твой берегут! Ты что, в самом деле записал себя в разряд элиты? Тоже, мол, начальник, тоже небольшая шишка в букете руководителей — стоит ли считаться с мнением рядовых? Даешь сразу верхнюю инстанцию!
— Совершенно не думал, Дмитрий Иванович.
— Почему же? Первый советчик, самая первая инстанция, где коммунист проверяет себя и свое поведение, — первичная партийная организация.
— Я советовался с другом.
— Уж не с Приклонским ли? Кстати, он фигурирует в «деле». Женился, разбойник?
— Женился.
— Ну, лишь бы на пользу.
Дрогнул телефон, Коршунов взял трубку.
— Слушаю вас. Коршунов. — Положил трубку, сказал: — Посиди минуточку.
Когда он ушел, я подумал: «Постарел Дмитрий Иванович, осунулся. Говорят, мучается язвой. То и дело щупает под ложечкой. — Про себя заметил: — Ошибка номер один — обошел партийную организацию. Посчитал принципиальный спор своим личным делом. Ну и кисель ты, Дубравин. Элита не элита, а гордость свою не умерил, вполне определенно. В партийной организации этот разговор проставил бы точки над «и». Антипа и Чалый, конечно, его не хотели, даже на бюро не вынесли, а ты, размазня, не настоял». Стало досадно. «Мальчишество. Ребяческий промах. Глупейшая амбиция».
Дверь отворилась, вошел полковник Тарабрин.
— Ба, лейтенант Дубравин! А я к Дмитрию Ивановичу. Так что же случилось, товарищ Дубравин? Как член партийной комиссии, я познакомился с вашим «делом». Чего-то в нем не понимаю. Неужели вы действительно не разобрались в солдатских настроениях?
— Я сам не понимаю, товарищ полковник.
— А почему не спросили? Ну, скажем, в полку не нашли поддержки. Почему не пришли ко мне, к Дмитрию Ивановичу? Вы вот доказываете: больных настроений в полку нет. А я прежде вашего знал об этом, и Дмитрий Иванович знал. Почему не посоветовались?
— Ошибка, — согласился я.
— Да, это ошибка. Ошибка недоверчивой молодости.