Я долго смотрел откуда-то издалека в прозрачное холодно-голубое небо. Вдруг вместо Луны появилась седая Земля и грустно улыбнулась. «Ужель не узнаете? — спросила меня. — Я вовсе и не старая». В мгновение ока она преобразилась: резко стряхнула с себя пыль, расчесала волосы, тут же припудрилась, повязала синюю косынку. Затем, обратившись к Солнцу, она кокетливо сказала: «Ну как, хороша? Продолжай, насвечивай!» Она в самом деле была хороша — ярче и прекрасней ветреной Венеры, и Солнце не могло отказать ей в просьбе. Но Солнцем управлял… Не-Добролюбов. Пашка сидел за освещенным пультом, щурясь читал таблицу логарифмов и важно крутил блестящие стальные рычажки. Медленно двигалась стрелка шкалы. Солнце постепенно разгоралось. Я не успел разузнать у Пашки, был ли перед ним прибор управления прожекторной системой или новейший аппарат ПУАЗО; меня опередила курносая девушка. «Я из Лесного, — обратилась к Пашке. — Прибавьте, пожалуйста, Солнца». — «Лесному? Извольте», — ответствовал Павел и круто повернул рычаг. Я оказался в Лесном, в теплой зеленой долине, усыпанной цветами. Цветы и густая трава поднимались выше пояса. Пахло черемухой, мятой и ромашкой. Я шел рядом с девушкой — то была Виктория — и тихо, доверительно шептал: «Представляете, Пашка управляет Солнцем». Она попросила: «Дубравин, вы ведь знаете Валю Каштанову. Сочините для нее сонет». Тут Не-Добролюбов включил небольшой прибор, и по долине устремился ветер. Трава наклонилась, стебли цветов вытянулись к нашим ногам. «Что же вы молчите, Дубравин?» Я выбросил руку вперед, начал читать:
«Еще», — попросила Виктория. Я прочитал еще:
«Но это ведь Пушкин!» — «Совершенно верно, Пушкин». — «Мне нравится». Она обернулась к горячему Солнцу и звонко, на всю долину, крикнула: «Ну что ж, свети! Свети, не уставай! Мы, жители Земли, тебя приветствуем».
Когда я проснулся, за окнами блестело морозное утро, на крышах домов серебрился иней, а над Марсовом полем медленно и величаво снижался серовато-розовый в солнечных лучах аэростат. Я подумал: «Какая счастливая выпала ночь. Чтобы соткать такой изумительный сон, надо было кому-то потрудиться. Надо было созвать над моей подушкой Не-Добролюбова и Пушкина, Викторию и Валю… Нарядить красавицей Землю и поставить человека командиром Солнца… Распахнуть зеленую долину и наполнить ее ветром… Щедро предложить все запахи весны и расстелить нарядный цветочный ковер…» Но самое мудрое в этой ночной фантасмагории — это ее отрешенность от войны. Удивительно, но так: в эту прекрасную ночь война была забыта. Словно ее никогда и не было. И не было лохматого сфинкса кретинизма..
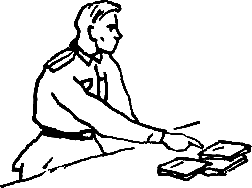
Антипа проводит линию
Лохматый сфинкс, к сожалению, существовал, и с ним, опять же к сожалению, нередко приходилось считаться…
Я поджидал Викторию, чтобы вместе отправиться в дивизион на комсомольское собрание. Она должна была сделать доклад о нравственном облике комсомольца, я — выступить на эту же тему с короткой, но интересной речью. Мы честно готовились к выступлениям. Опыт свидетельствовал: вопросы морали — взаимной выручки, дружбы, коллективизма — всегда вызывали горячие споры; равнодушных, полагали мы, на этом собрании не будет.
Виктория задерживалась. Час назад ее вызвал Чалый, и она еще не возвратилась.
Наконец пришла, чуть не вбежала в кабинет — гневная, пунцовая. Вслед за ней, подавляя тихую усмешку, вошел Антипа Клоков.
Подойдя к столу и приняв выражение благопристойной серьезности, Антипа ей сказал:
— Вы поступили опрометчиво. Крайне необдуманно, товарищ Ржевская.
— Я поступила, как велела совесть, — запальчиво ответила она. Мне объяснила: — Только спросила, как относиться к тем, кто заводит на фронте вторую семью. Должна же я знать! Должна же быть ясность!
— Можно было деликатнее, — наставлял Антипа. — Он человек щепетильный.
— А я без экивоков — для него сказала. Хотела узнать, распишется ли с Тосей.
— Ну нельзя же! Прямой и непосредственный начальник…
Виктория вынула платочек, стала вытирать глаза.
— Ладно, обратимся к делу. Слушай последние указания, — Антипа глянул на меня. — Во-первых, в беседах с солдатами говорить только о том, что относится к войне и обороне города. Посторонних вопросов не касаться. Ржевская намерена вынести на обсуждение тему морали и чести. Воздержаться! Морализировать не настало время. Война сужает круг забот и интересов. Все для войны, все во имя боевой готовности и стойкой обороны.
Я улыбнулся: «Нища и убога твоя демагогия».
— Во-вторых, — продолжал Антипа, — при посещении точек вменяется просматривать солдатские библиотечки. Книги невоенной тематики немедленно и твердо изымать. Было время — мирились с такой роскошью, отныне и впредь — жестокий блокадный лимит.
Виктория молчала. Я спокойно спросил:
— Чьи это указания?
— Не все ли равно! Директивы исходят от начальства. Наше дело — проводить их в жизнь.
— Я воздержусь проводить такие указания.
Антипа растерялся — заморгал глазами и мгновение молчал.
— Не понимаю вас, Дубравин. (До этого он говорил мне «ты».) Я передал вам линию начальства, и будьте добры…
— …стать деревянной пешкой? Бездумно, но старательно лезть ради начальства в капкан или в дамки? Если даже начальство ошибается и преследует совсем непохвальные цели? Нет! Столь добрым я, извините, не буду. Не убежден, что ваши указания согласуются с политикой партии. Эти указания — кретинизм навыворот. Страх перед здоровой мыслью и критикой наших недостатков. Можно ли замкнуть интересы человека в тесном прямоугольнике бивака? С людьми надо говорить о том, о чем они желают говорить. Если хотите, я знаю, почему вы против бесед на моральные темы. Хотите?
Виктория подошла ко мне и дернула за рукав. Антипа усмехнулся.
— Вы с подполковником боитесь критики. Боитесь осуждения со стороны людей. Вы лично — за то, что чересчур печетесь о семье, подполковник, напротив, стыдится своих связей с кокетливой Стекляшкиной.
Антипа изумился.
— Вы… — сказал он захрипевшим голосом. — Вам следует объясниться с самим подполковником.
— Надеюсь, вы поставите его в известность.
Антипа побледнел. Мы обменялись враждебными взглядами.
Когда он ушел, Виктория спросила:
— Что же теперь будет, Дубравин?
— Не знаю. Что-то, безусловно, будет.
— Мы не пойдем на собрание?
— Собрание придется отложить.
— Вы не уверены в своей правоте?
— Наряду с правотой есть военный устав и нормы субординации. Высшее право — за уставом. Подождем окончания спора.
— А я думала, — помедлив, сказала Виктория, — что правда и устав у нас одно и то же.
— Конечно, — успокоил я. — Советский устав и партийная правда друг другу не противоречат.

О музах
На точке 29 встретился с Агарковым.
— Федя, как же я не знаю, что ты сочиняешь стихи?
— А я про себя сочиняю, товарищ лейтенант. Разве об этом объявляют?
— Но одну твою песню я все-таки слышал. Очень понравилась.
Федя смутился, вынул из кабины автомобиля пучок промасленной пакли, стал протирать лебедку.
Потом мы закурили, и он, преодолев застенчивость, сказал:
— Не пойму, товарищ лейтенант. Знаю, не военное дело — сочинять стихи, а они меня не спрашивают, сами сочиняются.
— Как же так — сами?
— Истинно вам говорю. Сидишь ночью за лебедкой, делать нечего — ну они и беспокоят. Всякие картинки начинают представляться, а за ними пойдут слова — все такие новые, хрустальные слова, удивительно, откуда и берутся. За одним другое, потом третье и опять какое-нибудь необычно красивое слово. Волнуешься, понятно. Каждое слово как будто из сердца выходит.