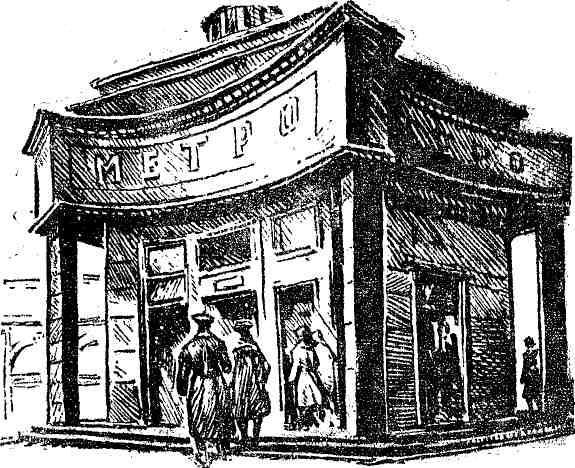Одну, бо́льшую и лучшую комнату отвели для зверья, а сами располагались в другой, меньшей и более шумной, с окнами на дорогу.
Собачки целый день вертелись возле хозяйки, выпрашивали шоколад. У Мамонтовых всегда на столе в вазе лежали конфеты, и обезьянка их воровала. Это тоже тешило хозяйку.
Мамонтов все боялся, что когда-нибудь наступит нечаянно на собачку, и тогда уж с женой мира не будет.
С появлением в доме Шорникова зверям пришлось потесниться. Они привыкли к нему очень скоро, радовались его возвращению: все они были сладкоежками, а он не забывал приносить им угощения.
Сергей Афанасьевич мало находился дома, обедал в редакционном буфете, там же и ужинал. И делал это больше из-за того, чтобы легче было Изиде.
— Он у меня совсем от рук отбился, — говорила Изида. — У него там, в редакции, старая любовь — тетя Оля!
Шорников однажды видел ее, она приезжала на квартиру Мамонтова с оттиском свежей газетной полосы.
Мамонтов уважал эту женщину и при встрече целовал ей руку.
Тете Оле уже шел седьмой десяток. Но она еще шустрая, веселая, говорит немного певуче, очень приятно. И каждому улыбается. Не все знают даже в редакции, что когда-то она была известной журналисткой, работала в «Вечерке» и «Известиях», в «Пионерской правде». Несколько лет спокойно пожила на пенсии и вернулась, стала опять работать, курьером — лишь бы дышать воздухом, который приводил в трепет с юности. Платье на ней длинное, сшитое еще в пору молодости, но теперь оказалось в самый раз.
Изида — вторая жена у Мамонтова. Он овдовел несколько лет назад. Как ни обхаживали его редакционные женщины, чтобы женить на своих подругах, по различным причинам оставшихся одинокими, он устоял. И все посчитали, что в такие годы человека не женить. Но во время командировки в Одессе он встретил Изиду у кого-то в гостях, был восхищен ею и привез в Москву. Что потом про нее ни говорили ее соперницы, он не хотел и слышать. Мужчины были на его стороне: понравилась — не колебался!
Но теперь и мужчины сочувствовали: все видели, что ему нужна была уравновешенная женщина, такого склада, как он сам.
Во время войны репортажи Мамонтова с фронта печатались на первой полосе «Правды». Потом он перешел на психологические очерки, уже в мирные дни был награжден орденом.
Писал он обычно ночами, но утром, не чувствуя усталости, отправлялся в редакцию. Если у него что-то не получалось, он ходил по комнате, бледный и усталый, молчаливый, пил кофе или крепкий чай, начинал читать. Наконец откладывал книгу и спешил к пишущей машинке.
В Доме журналистов хотели сделать о нем стенд, но он воспротивился:
— Ни в коем случае! Сейчас многие молодые пишут куда лучше меня.
Но никто теплее Мамонтова не мог написать очерк о человеке. Если же начинали его хвалить, он смущенно закрывал лицо руками:
— Ради бога, не надо! Пощадите!
С детства он помнил, как на одном из съездов партии Ленин решительно потребовал, чтобы прекратили речи по поводу его пятидесятилетия, а потом даже ушел с заседания. И Сергей Афанасьевич считал, что славословие развращает и прославляемых и прославителей.
Мамонтов не только критически относился к себе, но и никому не завидовал, считал, что он до сих пор ходит вокруг да около чего-то главного, никак не может его нащупать. Немного странным казалось, что этот с виду замкнутый человек с такой нежностью и вниманием относится к людям. Один из его коллег поморщился, когда Сергей Афанасьевич поцеловал руку тете Оле:
— Пережитки прошлого — и только.
Мамонтов ответил ему:
— Ничего вы не понимаете. А это понимать надо! Бывший голодранец, сын пролетария, целует руку прекрасной даме. Тут же целая эпоха!
Мамонтов и Шорников подолгу беседовали, частенько засиживались до полуночи.
— Мне нравится ваш прямой, солдатский характер, — говорил Сергей Афанасьевич. — И мнение вы свое имеете. Я не люблю людей без убеждений — такие будут служить и богу и дьяволу. Может, я и ошибаюсь, но, по-моему, человек, который в сорок лет не подготовил себя ни к чему серьезному, не мужчина. Мне тоже не нравится, как я живу, и я могу против себя произнести целую обвинительную речь, но я всегда боялся путаться под ногами у времени. Порой не различал, где добро и зло, но всю жизнь учил других быть мужественными в беде. А о себе не думал. Учил стремиться к ясности, понимать друг друга, но не понимал порой себя — чувства брали верх над разумом.
Опять намеки. Шорников давно заметил, что в семейной жизни у Мамонтова не все благополучно. Видимо, после ссоры Изида и уехала на дачу к подруге, тоже любительнице декоративных собак. Обезьянка болела, сидела часами на подоконнике и смотрела куда-то в одну точку. Конфет не ела.
Цвели тополя, белый пух носился по улицам, на тротуаре сизоватые сугробики. Еще только половина июня, а казалось, что лето давно кончилось и вот-вот в подъездах завоют холодные ветры.
Сергей Афанасьевич ходил как неприкаянный, сам себе утюжил брюки, стирал носки и майки. И беспрерывно пил кофе. А ночами писал.
— Зря вы себя не щадите, Сергей Афанасьевич, — сказал Шорников.
— Дорогой мой! Все это так. Но если в мире что-то и достигнуто человечеством, то только потому, что кто-то не щадил себя. Вы это накрепко запомните.
Изида вернулась повеселевшая, принялась наводить порядок на кухне и в комнатах, часто разговаривала по телефону, смеялась. Опять появились гости. А гостили у Мамонтовых, как он говорил, «все, кому не лень»: собаководы из Одессы, летчики гражданского флота, какой-то сотрудник журнала «Цирк». Долго сидели за столом, пили и курили. Обезьянка не любила запаха табака и водки, начинала рычать и прыгать с одного места на другое. Мамонтов оставлял гостей и уходил с ней на улицу, заодно выводил и собак.
С возвращением Изиды у Мамонтова поднялось настроение, он снова засел за свои японские записки, а до них не дотрагивался почти полгода.
Частенько перед вечером Сергей Афанасьевич звонил Шорникову и предлагал встретиться у фонтана, где памятник Пушкину.
На этот раз фонтан молчал — воду выключили. Был душный вечер, горячие волны воздуха врывались на площадь откуда-то сверху, с крыш домов, пахло пылью и асфальтом.
Они посидели на скамейке, затем зашли в бар выпить по кружке пива. У пивной стойки была очередь. Какой-то толстячок с рыцарской бородкой стал подшучивать:
— Пейте, пейте, товарищ военный. А между прочим, стронций сто девяносто уже и в пиве.
— Больше в молоке! — ответил Шорников.
— В черной икре! — добавил Мамонтов.
— Ну и пусть ее тогда жрут господа империалисты!
Толстячок достал из кармана пиджака флакон, добавил в свой бокал водки и вскоре уже, раскачиваясь, говорил:
— А вы знаете, кто я? Кто я был?
— Кем был, тем уже, наверное, не станешь, — усмехнулся Мамонтов.
— Оскорбительно, но — дай пять.
— Обойдемся и без этого.
Толстячок перешел к соседнему столику.
— Если б этого стронция сто девяносто да было побольше в водке! — сказал Сергей Афанасьевич.
— Все равно бы пили.
— Конечно, пили. Ее бы просто надо, как отравляющие вещества, в шахты выливать. Или спускать в баллонах на дно океана.
— Там она выдержанным коньяком станет!
Они допили пиво и пошли по Тверскому бульвару к Никитским воротам.
— Понимаешь, — сказал Шорникову Мамонтов, — вызывает меня сегодня редактор и говорит: «Вы собирались писать очерк к юбилею маршала Хлебникова, воздержитесь пока». Вы можете мне что-нибудь ясно сказать?
— Нет.
Они долго шли молча.
— Но очерк я все равно написал.
Мамонтов знает Хлебникова еще с финской кампании. Когда-то их знакомство готово было перерасти в дружбу, но потом они стали реже и реже встречаться, маршала одолели свои заботы, а Мамонтова свои. Но Мамонтов давно считал себя обязанным написать о нем. Он опечален. Идет и насвистывает тихонько мелодию фронтовой песни: «Давай закурим, товарищ, по одной…»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ