
Роберт Оснос с матерью
Как свидетельствует ее название, это было всего лишь служебное обещание на получение виз. Их должны были проставить в паспортах в Берлине. Теперь, следовательно, надлежало достать сами паспорта, на которые евреи уже не имели права. Вся эта процедура отняла четыре месяца. Сначала Марте необходимо было стереть все следы своего происхождения. Нашелся священник, который согласился окрестить ее и сына и выдать задним числом метрики крещения. Потом несколько раз она ездила в Краков, поскольку только тут выдавали документы на выезд. Путешествие это было небезопасным. Евреям путешествовать уже запретили, а ее внешность сомнений не вызывала. На месте необходимо было завершить бесчисленные преграды. Найти знакомых в чужом городе. Сориентироваться, кому и сколько дать взятки. Быть уверенной в себе и беззаботной, когда внутри все трясется от страха. Не отступать, если в последнюю минуту подводили люди. Верить инстинкту, который подскажет, когда надо кричать и требовать исполнения обещаний, а когда с покорностью просить и подставлять голову под неприятности. Благодаря своему упорству, но и невероятному везению, она получила наконец паспорта, которые тогда уже были недоступны.

Юзеф Оснос
9 июня, в воскресенье, с девятилетним Робертом она села в поезд, отъезжавший в Берлин. При них было два чемодана и десять марок. Утром в понедельник сошли на вокзале. Весь город разукрашен фашистскими флагами. Отмечалось присоединение к фашистам итальянцев. В Берлине опять пришлось преодолеть тысячу препятствий, в особенности финансовых. У нее не было денег ни на дальнейшую оплату виз, ни на поездку. В конце концов и то и другое улажено. Сели в поезд, разместились в купе, Роберт был очень спокойным и тихим. И лишь когда пересекли югославскую границу, у него началась рвота. Здесь он почувствовал себя в безопасности. На вокзале в Бухаресте их встречал Юзеф с букетом роз.
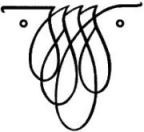
Люди
В сентябре 1940 года в здание «Под знаком поэтов» на площади Старого Мяста ворвались гестаповцы. Сверху донизу все перерыли с угрозами и проклятиями, не говоря при этом, чего ищут. Не найдя, ушли. Через несколько дней бабушку вызвали в гестапо. На всякий случай она захватила с собой зубную щетку, полотенце, взяла дрожки и поехала на аллею Шуха. К счастью, через два часа она вернулась. Ее допрашивали по довольно абсурдному делу. На чердаке этого здания хранились изданные еще в 1905 году моим дедом и предназначенные для рабочих социалистические брошюры Маркса, Бебеля, Каутского, Лассаля. Их давно уже никто не покупал, и они считались просто хлопотной макулатурой. Переезжая на Старе Място и наводя тут порядок, их легкомысленно выбросили во двор. Один еврей торговец книгами, взгромоздил все это на воз и, встав на углу улиц Длугая и Медовая, давай громогласно выкрикивать имена запрещенных оккупантами авторов. Его, естественно, тут же схватили, и на вопрос, где взял товар, он назвал адрес бабки.
Вся эта история могла бы кончиться весьма плачевно. Но бабушка, может, благодаря своему великолепному знанию немецкого, а может, звезде счастья, вышла из сложного положения целой и невредимой. При входе в гестапо портьер оскорбил ее какой-то антисемитской выходкой. Она вспомнила семейный девиз «Kopf hoch!» и свой разговор с офицером начала с недовольства подобным поведением. В ответ услышала, что евреи лучшего и не заслуживают. Она встала и громко заявила, что гордится своим происхождением. Что отец ее был знатным венским жителем, доктором философии, гуманистом. Ей не за что стыдиться своих предков. Все они заслуживают самого большого уважения. Похоже, она попала на кого-то с человеческими реакциями. Он не застрелил ее на месте. И хоть ее обвинили в том, что она «на улицах Варшавы распространяет коммунистическую пропаганду», ее отпустили. «Из уважения к возрасту». Верно, через два месяца, в ноябре 1940-го, ей исполнилось шестьдесят шесть.
12 ноября 1940 года, в Судный День, объявили о разделении Варшавы на три отдельных района: немецкий, польский и еврейское гетто. Евреев обязывали перейти в гетто до 15 ноября. Разрешалось взять с собой только ручную кладь и постельное белье. В нашей родне это распоряжение касалось двенадцати человек. В старшем поколении это были бабушка, ее сестра Флора Бейлин с мужем Самуэлем, ее брат Людвик Горвиц с женой Геней. В среднем поколении — моя мать, Каролина и Стефания Бейлины, а также Марыся и Алисия Маргулис — дочери Генриетты. Младшее представляли Павелек Бейлин и я. Не знаю, проходили ли по этому поводу в родне дебаты и обсуждения, но решение было однозначным. Все остаются на арийской стороне.
Людвик и Геня оказались самыми отважными. Они не сменили ни адреса, ни фамилии. Марыся и Алисия покинули квартиру, но остались в Варшаве по фальшивым бумагам. Бейлины, под чужими фамилиями, уже год находились в Миланувке. Вот и мы теперь переезжали под Варшаву, и довольно близко — нас можно было навещать. Но Павелек был уже не тем лучезарным пареньком, что до войны. Его не развлекали мои шутки и приставания. Он видел и понимал намного больше, чем я.
Я никогда никаких бесед с родными о военном времени не вела: ни о том периоде, когда мы были еще все вместе, ни о последующих годах, проведенных в разлуке и порознь. Я знать не желала об их переживаниях и не собиралась делиться своими. Избегала семейных встреч, на которых чудом уцелевшие родственники пытались рассказать о том, что с ними произошло. Когда нас навещал кто-нибудь из наших благодетелей тех лет, я либо уходила из дома, либо запиралась в своей комнате. Видимо, чувства, связанные для меня с совсем недавно пережитым, были слишком обнажены. Хотя в сравнении с тем, что меня на самом деле могло постичь, ничего особенного не произошло. И однако же бывали дни, а то и недели, даже месяцы, когда надо мной нависала настоящая угроза. Так чему удивляться, что я избегала воспоминаний? В результате этого, увы, сегодня оккупационное прошлое видится мне как бы сквозь густую дымку, о многих событиях я совершенно забыла или запомнила только факты, но не могу воссоздать самой атмосферы.
Я не стала бы и пытаться воскрешать все эти случаи, погребенные вне памяти, не будь сознания того, что мой долг — рассказать о людях, которым обязана своим спасением. Уж больно долго я собиралась это сделать. Анна Жеромская, Генрик Никодемский, Мария Янс, Ирэна Грабовская, сестра Ванда Гарчиньская, Мария и Антони Журковские — их уже нет. Совсем недавно казалось, что никто не ответит мне ни на один вопрос. Когда я попыталась вытянуть хоть какие-нибудь сведения из Моники Жеромской, она заметила: «Об этом надо было говорить с мамой. Это она вами занималась, навещала во всех этих подваршавских местечках. А я только стояла за прилавком в книжном магазине». Приуменьшает, конечно, свои заслуги, но хорошо, что посвятила нам несколько строк в своих мемуарах. Есть еще рассказы моей матери о военном времени, опубликованные в ее книгах. Фотографии. Благодаря этому я могу пусть отчасти, но заполнить пробелы в своих воспоминаниях.

Иоася Ольчак с подружкой, 1940 г.
А когда наконец села писать, пошли чудеса. Откуда ни возьмись, стали появляться помощники, о существовании которых я и понятия не имела. Приходить письма от людей, давно исчезнувших из моей жизни. Среди вороха пыльных семейных бумаг вдруг выплыли наружу отдельные воспоминания моей матери, одни были опубликованы сразу после войны, другие только начаты и брошены на полуслове. Но больше всего поразило, когда из старой черной тетради бабки, в которую она педантично заносила расходы, выпал листок в клетку. На нем со скрупулезной точностью она зафиксировала с указанием дат все места, где мы во время войны прятались, — вместе и порознь. Это был знак свыше: будь внимательна к деталям. Теперь легче воссоздать события, найти на карте места, где разыгрывалась драма военной истории, раскрыть героические роли, какие в этом действии выпали на долю друзей, но и тех людей, кто до войны нас просто не знал.